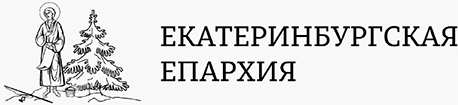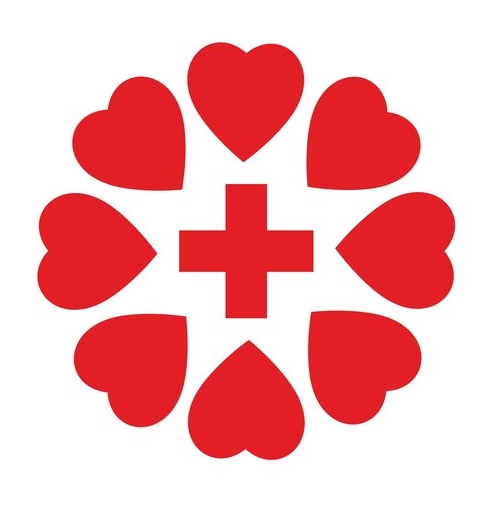«Верою, верностью, трудом» — такие слова выбрал Евгений Сергеевич Боткин для девиза на своем гербе, когда получил титул потомственного дворянина. В этих словах словно сконцентрировались все жизненные идеалы и устремления доктора Боткина: глубокое внутреннее благочестие, жертвенное служение ближнему, непоколебимая преданность Царской семье и верность Богу и Его заповедям во всех жизненных обстоятельствах, верность до конца. Такую верность Господь приемлет как чистую жертву и дает за нее высшую, небесную награду: Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни (Откр. 2, 10).
Родительский дом
Семейство Боткиных было родом из города Торопца Псковской губернии. Купец Петр Кононович Боткин, дед Евгения, в 1791 году переехав в Москву, занялся сначала производством сукна, затем оптовой торговлей чаем. Он быстро добился успеха, его компания «Петр Боткин и сыновья» торговала чаем без посредников, приносила большие доходы и Боткины вскоре вошли в число крупнейших чаеторговцев России.
Своих детей, а их было двадцать четыре, Петр Кононович воспитывал в строгом благочестии. Он сумел привить им понимание того, что если они получили от Бога богатство и ум, то обязаны разделить эти щедрые дары с другими людьми. Он хотел, чтобы его сыновья добивались успеха в жизни настойчивым трудом, помогали ближним и уважали чужой труд.
Петр Кононович Боткин сумел дать своим многочисленным детям хорошее образование и не препятствовал им заниматься тем делом, к которому они имели склонность. Он создал крепкую семью, члены которой поражали окружающих своей сплоченностью, взаимопомощью, а также радушием и отзывчивостью. Плоды семейного воспитания в полной мере стали видны на сыне Петра Кононовича Сергее, будущем всемирно известном враче.
Сергей Петрович, отец Евгения, получил образование в престижном пансионе, а затем — на медицинском факультете Московского университета. Довольно скоро обнаружился его необыкновенный талант к врачебному искусству. Этот талант соединялся с бережным и любовным отношением к больным, которое впоследствии унаследовал и Евгений.
Мать Евгения, Анастасия Александровна Боткина, в девичестве Крылова, была дочерью небогатого московского чиновника. Красивая, умная, деликатная, она была к тому же хорошо образованна: в совершенстве владела французским и немецким языками, прекрасно знала литературу, тонко разбиралась в музыке. Анастасия Александровна очень любила своих детей, но эта любовь не была слепым обожанием: она умела сочетать при воспитании ласку с благоразумной строгостью.
Однако жизнь ее была недолгой. Весной 1875 года она умерла на итальянском курорте Сан-Ремо от острого малокровия. После смерти жены на руках у Сергея Петровича осталось шесть сыновей и дочь. Евгению в это время было всего десять лет. Спустя полтора года Сергей Петрович женился второй раз на молодой вдове Екатерине Алексеевне Мордвиновой, урожденной княжне Оболенской, которая относилась к детям мужа с деликатностью и нежностью, стараясь заменить им мать. От этого брака родилось еще шесть детей. О Сергее Петровиче говорили, что в окружении своих двенадцати детей в возрасте от года до тридцати лет, он напоминал библейского патриарха.
Авторитет Сергея Петровича в семье был непререкаем, от детей он требовал безоговорочного послушания. Однако такая строгость не казалось детям чрезмерной: она была растворена самой искренней отцовской любовью, поэтому дети слушались отца охотно и, как вспоминают современники, нежно его любили. По духу Сергей Петрович был миротворцем: он избегал ссор, праздных споров и старался не обращать внимания на мелкие житейские неурядицы, а в трудных жизненных ситуациях напоминал окружающим о милосердии Господа.
Величие его души особенно проявлялось в том деле, которому он посвятил всю свою жизнь. Многие современники отмечали необыкновенный талант Сергея Петровича Боткина как диагноста и считали это даром Божиим, потому что он часто удивлял окружающих способностью «разгадывать» болезни и находить против них наилучшие лекарства. Некоторые диагнозы, которые поставил Сергей Петрович, вошли в историю медицины.
Будучи исключительно талантливым диагностом, он никогда этим не превозносился, но считал свой труд священным долгом перед ближним и перед родиной. В то время как окружающие с восхищением говорили о его гениальности, сам Сергей Петрович был очень смирен и говорил сыновьям, что доктор должен быть прежде всего нравственным человеком, готовым на жертвенный подвиг ради ближнего. После его смерти Евгений, разбирая бумаги отца, нашел листок, на котором Сергей Петрович когда-то написал: «Любовь к ближнему, чувство долга, жажда знаний». Будучи великим ученым, доктор, тем не менее, ставил на первое место не знания, а исполнение евангельского закона — любовь к ближнему.
Круг общения Боткиных был чрезвычайно широк — прежде всего, благодаря так называемым «боткинским субботам». Раз в неделю в доме у Сергея Петровича собирались ученые, музыканты, поэты, писатели, художники. На этих встречах редко поднимались медицинские вопросы, а политические темы не обсуждались никогда. Если гость, впервые попавший на вечер, начинал осуждать правительство или говорить о политических партиях и возможной революции, то остальные гости знали, что видят неосторожного новичка в последний раз.
Брат Евгения, Петр, впоследствии гордился тем, что на одном из таких вечеров, будучи ребенком, сидел на коленях у Тургенева. Поэты и музыканты, драматурги и литераторы сидели в гостиной за большим столом с докторами, химиками и математиками и все вместе представляли собой колоритное, единодушное общество. Тесное общение с людьми искусства и науки имело самое благотворное влияние на детей Боткина.
Одной из главных ценностей для семьи Боткиных всегда оставалась вера. Они любили храм, богослужения, и не могли себе представить, чтобы можно было долгое время оставаться без церковных служб. В этом, безусловно, была большая заслуга отца. В то время когда русская интеллигенция постепенно охладевала к религии, Сергей Петрович не отступал от православной веры и заботился о том, чтобы сохранить и укрепить ее в своих детях. Показателен такой факт. В начале 1880-х годов Сергей Петрович купил в Финляндии мызу Култилла[1], которая стала фамильной дачей Боткиных. Однако поблизости не было ни одного православного храма, поэтому сразу после приобретения усадьбы Сергей Петрович приступил к строительству домовой церкви. Это была единственная церковь на всю округу, поэтому на воскресные службы к Боткиным собирались все местные дачники. Каждую субботу вечером колокольный звон созывал всех желающих на всенощное бдение в церковь Боткиных, как ее называли. По воскресеньям все большое семейство Боткиных молилось за литургией.
Религиозность семьи Боткиных оказывала большое влияние на финских жителей. Работа в имении давала им материальное содержание, при этом они очень уважали хозяина поместья, который часто лечил их бесплатно. Каждое Рождество Боткины устраивали в имении для местных жителей праздник с играми, хороводами, рождественскими песнями, угощением. Ежегодно в церкви Боткиных совершались пасхальные службы с крестным ходом, посмотреть на который собирались даже финны-протестанты. А после праздничного богослужения работников имения и жителей деревни ждали подарки от хозяев: акварельные рисунки на пасхальную тему, разноцветные яйца, шоколад. Такая доброта действовала на финнов как самая убедительная проповедь: некоторые из протестантов, пораженные искренней любовью Боткиных к простым людям, принимали православие.
В семье Боткиных знали и почитали святого праведного Иоанна Кронштадтского. История сохранила для нас следующий случай. Сергей Петрович на протяжении двенадцати лет был лечащим врачом Салтыкова-Щедрина и несколько раз спасал его от смерти. Однажды, когда писатель тяжело заболел, его жена пригласила помолиться на дому отца Иоанна Кронштадтского. В это время мимо проезжал Сергей Петрович. Он увидел у подъезда большую толпу народа, испугался за здоровье своего подопечного и буквально ворвался в квартиру Салтыковых, где в это время домашние поили отца Иоанна чаем. Михаил Евграфович очень смутился от мысли, что приход на дом священника есть как бы знак недоверия врачу. Он боялся, что доктор обидится, но Боткин успокоил его, сказав, что рад был увидеть отца Иоанна. «Мы с батюшкой коллеги, — улыбнулся Сергей Петрович, — только я врачую тело, а он — душу».
К отцу Иоанну доктор Боткин относился с благоговением и просил его о помощи в тех случаях, когда сознавал бессилие научной медицины. Так, в 1880-е годы весь Петербург был взбудоражен вестью об исцелении княгини Юсуповой, которая умирала от заражения крови. К больной позвали отца Иоанна Кронштадтского. Навстречу пастырю вышел доктор Боткин со словами: «Помогите нам!» А когда княгиня Юсупова поправилась, доктор искренне признавал: «Уж не мы это сделали!»
С 1873 года Сергей Петрович стал лейб-медиком императора Александра II и его супруги Марии Александровны. Часто сопровождая императора в его поездках в качестве врача, своими нравственными и деловыми качествами он завоевал доверие государя. Однако, несмотря на свое высокое положение, Сергей Петрович остался таким же смиренным и доступным для простых людей, продолжая помогать всем, кто к нему обращался. Его кошелек «был открыт… для всяких благотворений, и едва ли кто-нибудь из обращавшихся за помощью уходил от него с отказом». Кроме этого, он, по своей сострадательности и доброте, часто лечил людей бесплатно. Слова и поступки отца, его поведение, отношение к Богу и людям глубоко напечатлелись в душе юного Евгения и стали для него нравственными ориентирами на всю жизнь.
«Он пришел в мир ради людей…»
Евгений родился 27 мая 1865 года в Царском Селе и был четвертым ребенком в многодетной семье Боткиных. Благодаря мудрому воспитанию, он еще в детстве приобрел такие добродетели, как великодушие, скромность и сострадательность. Мягкого, интеллигентного Евгения отличала нелюбовь к дракам и всяческому насилию. Его брат Петр вспоминал: «Он был бесконечно добрым. Можно было бы сказать, что пришел он в мир ради людей и для того, чтобы пожертвовать собой».
Как и все дети в семье Сергея Петровича Боткина, Евгений получил основательное домашнее образование. Кроме общеобразовательных предметов, он учился иностранным языкам, живописи. Музыку ему преподавал знаменитый композитор Милий Балакирев. Евгений относился к нему с большим уважением и, уже спустя годы в письмах к Балакиреву неизменно подписывался «Ваш ученик» или «Ваш бывший ученик».
Кроме родителей, большое влияние на мальчика оказал его крестный — дядя Петр Петрович Боткин, который возглавлял чаеторговую фирму, а кроме нее, владел еще сахарными заводами. Дядя был очень богат, и при этом отличался глубокой верой, добропорядочностью и вниманием к людям. Так, для рабочих своего сахарного завода он открыл бесплатную столовую, построил больницу и церковноприходскую школу. Петр Петрович, живший в Москве, был старостой нескольких церквей, состоял попечителем общественной Андреевской больницы, жертвовал большие суммы денег Московскому попечительству о бедных. Он помогал строить православный храм даже в Аргентине. Петр Петрович также пожертвовал большую сумму на строительство храма Христа Спасителя, а затем стал в нем старостой. Один из его родственников вспоминал: «…Чуть ли не сразу при освящении он сделался старостой в храме Христа Спасителя, по крайней мере, я помню его исключительно там. Кажется, в последний раз, когда я был на заутрене Святой Пасхи за церковным ящиком, передо мной в невероятно густой толпе пробирался с блюдом в руках Петр Петрович во фраке с Владимиром на шее, собирая церковный сбор». Перед глазами Евгения всегда был живой пример того, как нужно относиться к богатству, данному тебе от Бога, — оно дано, чтобы помогать другим.
Благодаря хорошей домашней подготовке Евгений смог поступить сразу в пятый класс 2-й Санкт-Петербургской классической гимназии, которая была старейшей в столице. К ученикам в этой гимназии предъявлялись столь высокие требования, что учащиеся часто оставлялись на второй год. Так, один из учеников провел в гимназии вместо положенных восьми лет — тринадцать. Из семьи же Боткиных (а кроме Евгения в этой гимназии учились еще его братья Сергей, Петр, Александр и Виктор), никто ни разу не оставался на второй год.
Учился Евгений довольно хорошо, по немецкому, французскому и русскому языкам — на отлично. Позднее, когда он занял высокое положение при дворе, он оказался среди тех немногих в свите императора, кто прекрасно говорил по-французски, по-немецки и по-английски. Евгений не только прилежно занимался, но и отличался безупречным поведением во время уроков. В журнале успеваемости и поведения учеников о нем сообщалось: «В посещении уроков — обыкновенно исправен, уроки пропускал по болезни; в приготовлении уроков — весьма исправен, в исполнении письменных работ — весьма старателен, относительно внимания в классе — внимателен».
В гимназии строго следили за поведением учащихся. Так, на заседании педагогического совета 12 октября 1879 года было принято постановление вносить проступки учеников в кондуитный журнал. Это была толстая книга, в которой каждому из учеников посвящался один лист. На каждом листе кондуита находилась таблица: дата замечания, проступок, фамилия преподавателя, сделавшего порицание, состоявшееся взыскание. Некоторые листы содержали десятки замечаний. Типичные нарушения дисциплины были такие: «леность», «беспокойное поведение», «неприготовление домашнего задания», «делал хлопушки на перемене», «опоздал на полчаса», «ничего не делал во время урока», «безобразный смех», «постояннная болтовня». В архивах сохранился кондуитный журнал за 1880 год, из которого можно узнать об отношении братьев Боткиных к учебе. Петру Боткину в этом году, например, были сделаны следующие замечания: «не успел приобрести книги», «за уклонение от уроков на 2 часа». Замечания же на странице гимназиста Евгения Боткина отсутствуют.
Учеба давалась Евгению легко. Он увлекался математикой, читал религиозную, историческую и светскую литературу, любил стихи Пушкина. Отец вникал в учебные занятия сына, часто обсуждал с ним какую-либо прочитанную книгу. Особенно восхищался Сергей Петрович очерками Салтыкова-Щедрина. «Сколько ума и правды», — говорил он о его произведениях. Евгений всегда прислушивался к мнению отца и ценил возможность обсуждать с ним какие-либо вопросы. Позднее он писал, что отец стал для него опытным, добрым старшим другом, который мог наставлять, руководить, и с которым можно было советоваться. На развитие литературных интересов Евгения очень повлияли и «боткинские субботы», регулярно проходившие в родительском доме. Постоянно общаясь с талантливыми и незаурядными людьми, Евгений научился разбираться в литературе и поэзии. Современники впоследствии отмечали его начитанность и талант рассказчика.
Отец часто брал Евгения и других сыновей в свою клинику. Перед ее посещением он просил мальчиков вести себя спокойно, в обморок при виде крови не падать, поскольку они — лекарские дети. О труде медиков он повторял, что «нет большего счастья на земле, как этот непрерывный и самоотверженный труд на пользу ближних». Эту убежденность всем сердцем воспринял и Евгений. Он видел, что для отца это не просто слова: Сергей Петрович отдавал больным всего себя без остатка.

Студент
В 1882 году Евгений окончил гимназию. Ее выпускники, получившие аттестат, зачислялись в университет без дополнительных экзаменов и испытаний. Евгений стал студентом физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Учился он прилежно. Однако уже на следующий год, сдав экзамены за первый курс университета, он поступил в императорскую Военно-медицинскую академию. Его выбор профессии с самого начала носил осознанный и целенаправленный характер. Медицина, по свидетельству современников, была его призванием: он умел помочь и поддержать в тяжелую минуту, облегчить боль, протянуть руку помощи.
Военно-медицинская академия в то время была известна не только тем, что давала глубокое медицинское образование. Ее задачей было воспитывать врачей, преданных Богу, Родине и профессии. В правилах для преподавателей академии специально оговаривалось, что они «не могут высказывать чего-либо противного религии, нравственности, законам и правительственным распоряжениям». Для студентов существовала специальная инструкция, в которой говорилось о необходимости обязательного посещения церкви, говения Великим постом, исповеди и причащения. В главном здании академии находилась церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери, где, кроме богослужений, проходили все академические торжества. В церкви были установлены мемориальные доски с именами студентов и выпускников академии, погибших при исполнении своего врачебного долга во время войн или эпидемий.
Среди однокурсников Евгения, студентов выпуска 1889 года, оказалось много учащихся из семей ученых: Е. П. Бенард, Ф. Э. Лангебахер, А. В. Рутковский, П. Т. Садовский. Именно они на курсе задавали тон в учебе своей увлеченностью медициной. В свободное время многие однокурсники Евгения шли бесплатно работать в больницы Красного Креста. Курс, на котором учился Евгений, отличался особенной товарищеской сплоченностью и благородством духа. Вот лишь один из фактов. Многие студенты академии не имели достаточных средств к существованию и были вынуждены зарабатывать. Староста курса предложил создать специальный денежный фонд из добровольных пожертвований, для того чтобы менее обеспеченные студенты не отвлекались от занятий на заработки. Эта идея была принята студентами с воодушевлением. Евгений Боткин был среди тех, кто жертвовал немало средств для неимущих собратьев по учебе.
В течение учебного года Евгений напряженно занимался, а летние каникулы, как правило, проводил в имении Култилла. Там он не только отдыхал, но и трудился: с удовольствием собирал сено, поливал обширный сад, расчищал дорожки. Отец, считавший, что для поддержания здоровья полезна физическая работа, и в этом был для него примером.
В 1889 году Евгений успешно окончил академию, получив звание лекаря с отличием и именную Пальцевскую премию, которую присуждали третьему по успеваемости на курсе. При выпуске студенты Военно-медицинской академии давали так называемое «факультетское обещание», выражающее основополагающие морально-этические принципы поведения врача. Его текст помещался на оборотной стороне диплома лекаря: «Принимая с глубокой признательностью даруемые мне наукой права врача и постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня сим званием, я даю обещание в течение всей своей жизни не помрачать чести сословия, в которое ныне вступаю. Обещаю во всякое время помогать по лучшему моему разумению прибегающим к моему пособию страждущим, обещаю свято хранить вверяемые мне семейные тайны и не употреблять во зло оказанного доверия. Обещаю продолжать изучать врачебную науку и способствовать всеми своими силами ее процветанию, сообщая ученому свету все, что открою. Обещаю не заниматься приготовлением и продажею тайных средств. Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам-врачам и не оскорблять их личности, однако же, если бы этого потребовала польза больного, говорить правду без лицемерия. В важных случаях обещаю прибегать к советам врачей, более меня сведущих и опытных; когда же сам буду призван на совещание, обязуюсь по совести отдавать справедливость их заслугам и стараниям».
Эти нравственные правила врача, которые Евгений Боткин называл «кодексом принципов», не были для выпускников курса 1889 года просто словами. Это была, можно сказать, программа их жизни. После окончания академии большинство из однокурсников Евгения, став врачами, проявляли большое самоотвержение и благородство: бесплатно принимали больных в лечебницах Российского Общества Красного Креста; служили в различных военных поселениях, крепостях, саперных батальонах и на флоте; работали земскими врачами; трудились во время эпидемий, подвергая себя риску заражения. Вот лишь несколько примеров. Земский врач Василий Васильевич Ле-Дантю создал сеть небольших больниц и этим добился снижения смертности среди крестьян. Он умер, заразившись сыпным тифом при лечении крестьянской семьи. Талантливый хирург Франц Викентьевич Абрамович также скончался, заразившись от пациента. В период русско-японской войны десять однокурсников Евгения Сергеевича погибли при исполнении своего врачебного долга.
«Кодекса принципов» придерживался в своей врачебной практике и Евгений Боткин. Он справедливо считал, что подобные этические нормы близко подходят к христианству и могут естественным образом привести от религиозного индифферентизма к вере — как произошло и с ним самим. Во время обучения студент Боткин испытал некоторое охлаждение к религии, однако этот период длился недолго. Себя он называл одним из тех счастливцев, у которых по особой милости Божией после периода религиозного равнодушия к делам присоединилась и вера. Во всяком случае, для Евгения было очевидным, что добрые дела, в том числе врачебная помощь людям, должны быть основаны на вере. Как он писал в одном из писем, вспоминая слова из Соборного послания апостола Иакова, «если вера без дел мертва, — то и дела без веры не могут существовать».
Выпускные торжества в академии, состоявшиеся 11 ноября 1889 года, омрачились для Евгения тяжелой болезнью отца. Через месяц, 12 декабря, Сергей Петрович скончался во Франции, в Ментоне, от ишемической болезни сердца. Умер он сравнительно молодым: ему было всего 58 лет. Похоронили Сергея Петровича в Санкт-Петербурге на кладбище Новодевичьего монастыря. Евгений часто приходил на могилу отца, сосредоточенно молился и плакал.
Врач
После окончания академии Евгению пришло время выбирать место своего служения. Слава отца, всемирно известного медика и ученого, открывала ему все двери: он мог сразу найти место с самым высоким жалованьем. Однако Евгений не желал пользоваться именем отца. Он решил начать свою практическую деятельность в Санкт-Петербургской Мариинской больнице для бедных, учрежденной императрицей Марией Феодоровной. Жалованье там было маленькое. Однако эта больница была одной из лучших клиник Петербурга — ее называли «лечебным заведением, близким к совершенству», а потому многие молодые врачи (студенты и выпускники) Военно-медицинской академии выбирали ее для себя в качестве практической школы.
К тому времени главным врачом Мариинской больницы уже несколько лет был ученик Сергея Петровича Боткина — В. И. Алышевский. Он привел больницу в такое блестящее состояние, что каждый молодой врач стремился попасть именно туда. На его имя молодой лекарь Евгений Боткин и подал прошение. Доктор Алышевский, лично зная Евгения и его способности, ходатайствовал об определении его на должность врача-интерна. В январе 1890 года Евгений начал свою работу в клинике. В его обязанности входило обследовать больных при поступлении их в стационар и ставить предварительный диагноз, а также курировать сортировочные палаты, где находились новопоступившие.
Однако на должности врача-интерна Евгений находился недолго. В конце года он вступил в брак, и, поскольку ему нужно было содержать семью, руководство больницы предложило ему более высокооплачиваемую должность сверхштатного ординатора клиники.
Ко времени свадьбы Евгению было двадцать пять лет. Его избранница, Ольга Владимировна Мануйлова, была значительно младше: ей только что исполнилось восемнадцать. Она была сиротой, с четырех лет воспитывалась у состоятельных родственников. 7 января 1891 года в Екатерининской церкви императорской Академии художеств состоялось их венчание. Молодые супруги очень любили друг друга, имели полное единодушие и считали себя самой счастливой парой в мире. 12 сентября 1892 года у них родился первый сын. Мальчика назвали в честь деда — Сергеем. Однако через полгода нежно любимый родителями первенец скончался от воспаления мозговой оболочки. Эта смерть потрясла Евгения Сергеевича. Он мучительно переносил боль утраты, но именно эта боль привела его к глубокой вере и покорности перед судьбами Божиими. Господь дал ему возможность и силы полностью переосмыслить свою жизнь. Сам Евгений позднее писал о том, что после потери первенца стал заботиться не только о добросовестном выполнении обязанностей врача, но больше «о Господнем»: профессиональная деятельность осветилась для него светом заповедей Божиих. Православная вера стала основой его жизни и тем главным сокровищем, которое он старался передать своим детям. Всего в семье Боткиных выросло четверо детей: Дмитрий, Юрий, Татьяна, Глеб. Евгений был верным и любящим мужем и нежным и заботливым отцом. Казалось, этот семейный корабль не могут поколебать никакие бури…
В мае 1892 года Евгений Сергеевич поступил на должность врача императорской придворной певческой капеллы. При этом назначении возникла ситуация, в которой проявилась особая деликатность молодого доктора. Управляющим капеллой был композитор Милий Балакирев, который, будучи недоволен работающим при интернате доктором Юринским, решил устроить на его место своего бывшего ученика Евгения Боткина. Однако когда тот понял, что его приглашают на место неугодного начальству человека, то наотрез отказался принять предложение. И лишь через некоторое время, узнав о благополучном устройстве доктора Юринского в другом месте, согласился занять вакансию.
В певческой капелле Евгений Сергеевич проработал, однако, недолго. Милий Алексеевич отличался высокой требовательностью как к себе, так и к другим, его воспитанники сильно утомлялись от бесконечных репетиций и занятий. Доктор Боткин, жалея детей, освобождал их от непомерных нагрузок. Композитор был этим очень недоволен и, в свою очередь, отменял назначения врача. Однажды Балакиреву доложили о том, что якобы доктор Боткин в морозный день при сильном ветре повез легко одетых мальчиков в больницу на извозчике. Композитор возмутился. Евгений Сергеевич был огорчен тем, что Милий Алексеевич поверил клевете, и написал ему: «Первое условие возможности моей службы в придворной капелле — есть безусловное ваше ко мне доверие. Теперь, когда, как мне кажется, его уже нет, — мне остается только принести вам мою сердечнейшую признательность за все прошлое и просить вас снять с меня обязанности врача Придворной капеллы». В декабре 1893 года Евгений Сергеевич уволился из капеллы и через месяц вновь поступил на службу в Мариинскую больницу для бедных. В качестве врача-ассистента он добросовестно работал во всех отделениях стационара: терапевтическом, хирургическом, а также в изоляторе. Уже через год, в январе 1895 года, за «отлично-усердную службу и особые труды» он получил свою первую награду: орден св. Станислава III степени.
Одновременно с клинической практикой молодой доктор занимался наукой, его интересовали вопросы иммунологии, сущности процесса лейкоцитоза, защитных свойств форменных элементов крови. Через год Евгений Сергеевич блестяще защитил диссертацию на степень доктора медицины, посвятив свою научную работу памяти почившего отца.
Весной 1895 года руководство больницы, заботясь о повышении квалификации своих кадров, приняло решение командировать Евгения Сергеевича в Германию. Доктор Боткин трудился в медицинских учреждениях Гейдельберга и Берлина. Он занимался в Патологоанатомическом институте у профессора Арнольди, в лаборатории физиологической химии профессора Сальковского, слушал лекции профессоров Вирхова, Бергмана, Эвальдса, невропатолога Громана, прошел бактериологический курс у профессора Эрнста, курс практического акушерства у профессора Дюрссена в Берлине, прослушал курсы по детским болезням профессора Багинского и по нервным болезням профессора Герхардта… Работая в терапевтических клиниках и отделениях берлинских больниц, Евгений Сергеевич заметил, как хорошо организован у немцев уход за больными, и предлагал организовать подобный в русских больницах.
Эта командировка была для доктора Боткина чрезвычайно плодотворной: он получил разносторонние медицинские познания на самом высоком уровне и был прекрасно подготовлен к самостоятельной лечебной и научной работе.
В мае 1897 года Конференция императорской Военно-медицинской академии удостоила Евгения Сергеевича Боткина звания приват-доцента по внутренним болезням с клиникой. Молодой доктор начал преподавать. О чем же сказал он на своей первой лекции? О профессиональных навыках медика? О необходимости правильной диагностики? О достижениях современной медицины? Нет. Он сказал о том, что врач, прежде всего, должен проявлять милосердие, искреннее сердечное участие и сочувствие к больному человеку: «Так не скупитесь же, приучайтесь щедрой рукой давать сочувствие тому, кому оно нужно… пойдемте все с любовью к больному человеку, чтобы вместе учиться, как быть ему полезными». Служение медика Евгений Сергеевич считал истинно христианским деланием, сродни священническому. Он часто напоминал студентам о том, что необходимо «добросовестно исполнять свой священный долг относительно… несчастных больных, относясь к ним со всею заботливостью, на которую только способны, с искренней сердечностью, в которой они так нуждаются. Врач знает, что этим он не „балует“ больного, а исполняет лишь священный долг свой».
Будучи верующим человеком, Евгений Сергеевич имел христианский взгляд на болезни, видел их связь с душевным состоянием пациента: «Знакомство с душевным миром больного врачу не менее важно, чем представление об анатомических изменениях и нарушении физиологических функций тех или других клеточек его тела… А как часто все физические недуги больного оказываются лишь последствием или проявлением его душевных волнений и мук, которыми так богата наша земная жизнь и которые так плохо поддаются нашим микстурам и порошкам». Позднее, в одном из своих писем к сыну Юрию, он выразил свое отношение к профессии медика как к средству познания Божией премудрости: «Главный восторг, который испытываешь в нашем деле… заключается в том, что для этого мы должны все глубже и глубже проникать в подробности и тайны творений Бога, причем невозможно не наслаждаться их целесообразностью и гармонией и Его высшей мудростью».
Георгиевская община
С 1897 года доктор Боткин, с оставлением в должности сверхштатного врача при Мариинской больнице, начал свою врачебную деятельность в общинах сестер милосердия Российского общества Красного Креста. Вначале он стал сверхштатным врачом амбулатории лечебницы Свято-Троицкой Общины сестер милосердия. Это была одна из крупнейших общин России, которая состояла под покровительством государыни Александры Феодоровны. Сестры общины участвовали в Крымской, русско-турецкой и других войнах.
Но гораздо большую роль в жизни доктора сыграла другая община Красного Креста. С января 1899 года Евгений Сергеевич стал главным врачом Санкт-Петербургской Общины сестер милосердия в честь святого Георгия. Эта община создавалась при деятельном участии его отца, который состоял в ней почетным консультантом. Она была основана в 1870 году и находилась под покровительством императрицы Марии Феодоровны. В Уставе общины значилось: «Твердой ногой стать против напора бедствий, преследующих человечество в виде жалких гигиенических условий нашего быта, ежедневных болезней, эпидемий, а в случае войны — облегчить страдания раненых на поле битвы». Для этого надо было создать санитарный персонал, который посвятил бы все свои силы бескорыстному, самоотверженному служению страдающему человеку.
Несмотря на то, что Красный Крест был светской организацией, для поступления на работу в его общины существовали конфессиональные ограничения: в число сестер принимались только христианки, знавшие основные молитвы. Сестры во время своего служения должны были жить в общине и не имели права выходить замуж. Программу обучения для них разработал сам Сергей Петрович Боткин. Сестры изучали анатомию, физиологию, гигиену, им читали специальные курсы по внутренним болезням, хирургии, обучали уходу за больными.
Главными пациентами Георгиевской общины являлись люди из беднейших слоев общества, однако врачи и обслуживающий персонал подбирались в ней с особенной тщательностью. Некоторые женщины высшего сословия трудились там простыми медсестрами и считали почетным для себя это занятие. Сестры милосердия не только оказывали медицинскую помощь бедным людям, но и посещали квартиры больных, помогали устроиться на работу, определить кого-либо в богадельню. Благодаря подвижническому настрою духовника общины, известного протоиерея Алексия Колоколова, «никогда себя не щадившего в исполнении своего пастырского призвания», среди сотрудников царило такое воодушевление, такое желание помогать страждущим людям, что георгиевцев сравнивали с первохристианской общиной. «Сестры общины отдали себя святому делу служения больным с нераздельным усердием, напоминающим первые времена христианства», — писали, например, в «Санкт-Петербургских ведомостях».
Конечно, должность главного врача такой общины могла быть доверена только высоконравственному и верующему человеку. Как правило, перед подобным назначением о кандидате собиралась вся информация, с предыдущего места службы о нем запрашивалась точная и полная характеристика как служебных, так и нравственных качеств. Поэтому тот факт, что Евгения Сергеевича приняли работать в это образцовое учреждение, говорил о многом.
В это время у доктора Боткина были и другие обязанности: врач для командировок VI разряда при Клиническом военном госпитале, терапевт Мариинской больницы для бедных, преподаватель в Императорской Военно-медицинской академии. Но попечение о своей общине он не оставлял никогда. «Моя община», — называл он георгиевцев. Он заботился об обучении персонала, с участием относился к состоянию больных — все стороны деятельности общины находились под его наблюдением. Каждому пациенту, как богатому, так и бедному, Евгений Сергеевич уделял одинаковое внимание и старался всеми возможными способами помочь больному. Известно много фактов, подтверждающих то, что в Общине святого Георгия царил дух исключительного милосердия. Приведем один случай, произошедший во время первой мировой войны. Один больной простого звания, лежавший в больнице, никак не поправлялся и пребывал в глубоком унынии. Врач, навестив его и узнав о его настроении, в самых ласковых выражениях пообещал, что ему приготовят любое блюдо, которое бы тот согласился отведать. По желанию больного нажарили свиных ушек. От такого внимания он приободрился, повеселел и вскоре пошел на поправку.
В июле 1900 года Евгения Сергеевича и пятерых сестер милосердия Общины отправили в Софию для работы в Александровском госпитале, где был плохо организован уход за больными. Об их деятельности в этом госпитале сообщал дипломатический посол в Болгарии статский советник Бахметев: «Деятельность их проявилась так быстро и так благотворно, что нельзя не нарадоваться, глядя на улучшения и преобразования, которых они уже успели достигнуть. Добрые, работящие и опытные наши сестры привлекли к себе врачей своими практическими познаниями, а больных — сердечным и нежным обращением, что те и другие утверждают, что более не могут без них существовать. И что до сих пор не отдавали себе отчета в том ужасном положении, в котором находилась больница». О докторе Боткине господин Бахметев сообщал: «Доктор Боткин пробыл здесь две недели и, неусыпно работая для ознакомления сестер со столь новыми для них условиями, а также, что еще важнее, для ознакомления докторов с деятельностью сестер, заслужил всеобщую благодарность и уважение. Весь врачебный корпус встретил и проводил его с величайшим почетом и неподдельной симпатией». Свой отзыв о работе Евгения Сергеевича посол отправил даже императрице Марии Феодоровне, которая написала на тексте доклада: «Прочла с удовольствием». По высочайшему соизволению императрицы доктора Боткина за усердные труды в Софии наградили знаком Красного Креста и болгарским орденом «За гражданские заслуги».
При своей большой занятости доктор Боткин находил время и для научной работы: он читал лекции, проводил практические занятия у студентов и рецензировал диссертации кандидатов на соискание степени доктора медицины.
На русско-японской войне
В 1904 году началась русско-японская война. Евгений Сергеевич, оставив жену и четверых маленьких детей (старшему было в то время десять лет, младшему — четыре года), добровольцем отправился на Дальний Восток. Он был вправе не ходить на войну — никто не осудил бы его за это — но, но, будучи человеком, горячо любящим Россию, доктор Боткин не мог оставаться в стороне, когда речь шла о чести и безопасности Родины.
Он был назначен помощником Главноуполномоченного Российского общества Красного Креста при действующих армиях по медицинской части. В обязанности доктора Боткина входила организация в Маньчжурском районе походных госпиталей, лазаретов, эвакуационных пунктов, закупка медикаментов и оборудования, своевременная эвакуация раненых и больных. Работа эта была связана со многими трудностями, поскольку до этого времени общество Красного Креста не работало в Маньчжурии и не имело здесь достаточного количества помещений, в которых могли бы разместиться госпитали и лазареты.
Одной из самых первых забот доктора на войне стало то, чтобы госпитали и лазареты обязательно посещал священник для совершения Таинств, треб и оказания духовной помощи больным и раненым воинам. Если в тыловых госпиталях решить этот вопрос было проще, так как к больным приходили священники из местных церквей, то в Маньчжурии найти православного священника было делом нелегким. Но Евгений Сергеевич, любивший богослужения, прилагал все усилия к тому, чтобы его подчиненные и раненые не оставались без церковных служб — и все настолько привыкли к этим службам, что когда госпиталю при эвакуации пришлось отослать походную церковь, врачи устроили «храм» из подручных средств. Сам доктор вспоминает об этом так: «По канавке, которой был окружен церковный шатер, натыкали сосенок, сделали из них Царские врата, поставили одну сосенку за алтарем, другую — впереди перед аналоем, приготовленным для молебна; на две последние сосенки повесили по образу — и получилась церковь, которая казалась еще ближе всех других к Богу, потому что стоит непосредственно под Его небесным покровом. Его присутствие чувствовалось в ней больше, чем в какой-либо другой, и так вспоминались слова Христа: „Где двое или трое соберутся во Имя Мое, там и Я посреди их“. Эта всенощная среди сосен в полутьме создавала такое чудное молитвенное настроение, что нельзя было не подтягивать хору и не уйти в молитву, забыв все житейские мелочи».
Евгений Сергеевич занимал высокую административную должность, которая предполагала более решение организационных вопросов, нежели участие в боях, однако он не мог оставаться на войне просто сторонним наблюдателем. Петр Боткин вспоминал: «Когда разразилась японская война, мой брат был из первых, бросившихся телом и душой в эту сумятицу… Сразу же оказался на самых передовых позициях. Спокойствие его и смелость в самые критические моменты на поле битвы были примером». Евгений Сергеевич перевязывал раненых на поле боя, при отступлении лично эвакуировал их, одним из последних врачей покинул оставленный нашими войсками Вафангоу. В его формулярном списке сказано, что он находился в сражениях под Вафангоу[2], в Ляоянских боях[3] и на реке Шахэ[4].
Он написал с фронта множество писем, которые вскоре после войны были опубликованы отдельной книгой — «Свет и тени русско-японской войны 1904–1905 гг.» Эта книга свидетельствует о том, что в тяжелых условиях военного времени Евгений Сергеевич не только не утратил любви к Богу, но, наоборот, укрепился в доверии к Нему. Вот лишь одно из таких свидетельств.
В одном из сражений Евгений Сергеевич делал перевязку раненому санитару. Тот мучился не столько от ран, сколько от того, что в разгар боя оставил артиллерийскую батарею без медика. Доктор Боткин взял у него сумку и сам отправился на позиции, где попал под сильный артобстрел японцев. Сам доктор так описывает этот трудный день:
«Это был перст Божий, который и решил мой день.
– Иди спокойно, — сказал я ему, — я остаюсь за тебя.
Я взял его санитарную сумку и пошел дальше на гору, где на склоне ее и сел около носилок. Снаряды продолжали свистеть надо мной, разрываясь на клочки, а иные, кроме того, выбрасывали множество пуль, большею частью далеко за нами. <…> За себя я не боялся: никогда в жизни еще я не ощущал в такой мере силу своей веры. Я был совершенно убежден, что, как ни велик риск, которому я подвергался, я не буду убит, если Бог того не пожелает; а если пожелает — на то Его святая воля… Я не дразнил судьбы, не стоял около орудий, чтобы не мешать стреляющим и чтобы не делать ненужного, но сознавал, что я нужен, и это сознание делало мое положение приятным.
Когда сверху раздавался зов: „Носилки!“ — я бежал наверх с фельдшерской сумкой и двумя санитарами, несшими носилки; я бежал, чтобы посмотреть, нет ли такого кровотечения, которое требует немедленной остановки, но перевязку мы делали пониже, у себя на склоне».
Во время срочных эвакуаций доктор Боткин не уезжал вместе со всеми, но оставался ждать опоздавших раненых. Он встречал их, выносимых товарищами из близкого боя, и отправлял на колесных носилках за отступавшими войсками. Когда однажды раненый солдат, которому доктор делал перевязку, волновался, что может попасть в руки японцев, Евгений Сергеевич сказал, что в таком случае останется вместе с ним. Солдат мгновенно успокоился: с Боткиным не страшно нигде.
С глубоким уважением к военным медикам доктор приводит рассказ об Евгениевском госпитале, которому пришлось срочно эвакуироваться из Ляояна. Раненые почти все уже были вывезены в безопасное место, медики торопливо паковали медикаменты, не успевая собрать даже личные вещи. В этот напряженный момент к врачам приехал Главноуполномоченный Исполнительной комиссии в Маньчжурии камергер Александровский и приказал срочно выезжать, а из помещения вынести только самое для них ценное, то, что можно унести с собой. Через несколько минут появились врачи, неся на руках гроб с телом умершего в их госпитале офицера.
С не меньшим, а может, и большим благоговением доктор говорит в письмах о простых солдатах, которые для него были любимыми «солдатиками», «святыми ранеными». Евгения Сергеевича восхищало то, с каким мирным духом и терпением простые солдаты переносили ужасные страдания и встречали смерть. «Никто-то, никто из них не жалуется, никто не спрашивает: „За что, за что я страдаю?“ — как ропщут люди нашего круга, когда Бог посылает им испытания», — с умилением писал он жене. Сердечно любя русских солдат, Боткин признавался, что сначала ему было трудно оказывать медицинскую помощь пленным врагам, приходилось пересиливать себя: «Каюсь, вид раненого японца в своем кэпи среди всех этих мук мне был неприятен, и я заставил себя подойти к нему. Это, конечно, глупо: чем он-то виноват в страданиях наших солдатиков, с которыми он их разделяет! — но уже слишком душа переворачивается за своего, родного». Однако христианское сострадание постепенно победило: впоследствии Евгений Сергеевич с искренней нежностью и любовью относился не только «своим», но и к «чужим» раненым.
Поражения русской армии в японской войне Евгений Сергеевич переживал тяжело, но при этом смотрел на вещи духовно: «Целая масса наших бед есть только результат отсутствия у людей духовности, чувства долга, что мелкие личные расчеты ставятся выше понятия об отчизне, выше Бога».
Вообще, с духовной точки зрения доктор смотрел на любые, даже, казалось бы, незначительные события. Как удивительно он, например, описывает грозу, внезапно разразившуюся на поле боя! «Тучи все гуще и плотнее заволакивали небо, пока оно не разразилось на вас величественным гневом. Это был Божий гнев, — но гнев людской от этого не прекратился и, Господи! — какая резкая была между ними разница!.. Как ни похож грохот орудий на гром грозы, он показался мелким и ничтожным перед громовыми раскатами: одно казалось грубым, распущенным человеческим переругиванием, другое — благородным гневом величайшей души. Злыми искрами разгоряченных глаз явились яркие огни стреляющих орудий рядом с ясной молнией, болью раздиращей Божественную душу.
– Стойте, люди! — казалось, говорил Божий гнев: — очнитесь! Тому ли Я учу вас, несчастные! Как дерзаете вы, недостойные, уничтожать то, чего не можете создать?! Остановитесь, безумные!
Но, оглушенные взаимной ненавистью, не слушали Его разъяренные люди и продолжали свое преступное, неумолимое взаимное уничтожение».
В одном из писем к жене Евгений Сергеевич рассказывает, как он, только-только уложив в поезд всех раненых, обнаружил, что один из пассажиров уже скончался — не доехав до больницы, но сразу прибыв «на самую важную станцию». Заканчивает он этот рассказ словами, которые ясно обнаруживают настроение его сердца: «Какое же блаженство должна испытывать человеческая душа, переходя из своего темного, тесного вагона к Тебе, о, Господи, в Твою неизмеримую, безоблачную, ослепительную высь!»
В мае 1905 года доктор Боткин, еще находясь в действующей армии, был пожалован званием почетного лейб-медика императорского двора. Этот чин присваивался не только медикам, находящимся на придворной службе, но также и врачам, успешно проявившим себя в различных областях медицинской науки и практики. Лица, удостоенные звания почетного лейб-медика, могли претендовать и на получение должности лейб-медика Высочайшего Двора.
Осенью того же года Евгений Сергеевич вернулся в Санкт-Петербург к месту своего постоянного служения. За мужество и самоотверженность на войне он был награжден орденами святого Владимира IV и III степени с мечами и произведен в звание статского советника. Однако самой ценной наградой для доктора были не ордена, но искренняя любовь и признательность как его пациентов, так и его сотрудников. Среди многочисленных знаков отличия и памятных сувениров, привезенных доктором Боткиным с войны, была скромная папка-адрес, подаренная на прощание его подчиненными — медицинскими сестрами, бывшими вместе с ним на фронте. Они писали: «Глубокоуважаемый Евгений Сергеевич! За то недолгое, но тяжелое время, которое Вы провели вместе с нами, мы видели от вас столько доброго, хорошего, что при разлуке с Вами хотим высказать наши глубокие, искренние чувства. В вас мы видели не сурового, сухого начальника, а глубоко преданного своему делу, искреннего, отзывчивого, чуткого человека, скорее, родного отца, готового в тяжелую минуту помочь и оказать участие, сочувствие, которые так дороги здесь, вдали от родных, особенно для женщины, часто неопытной, непрактичной и юной. Примите же, дорогой Евгений Сергеевич, нашу глубокую, искреннюю благодарность. Да благословит вас Господь во всех ваших делах и начинаниях и пошлет вам здоровья на многия, многия лета. Верьте, что благодарные наши чувства никогда не изгладятся из сердец наших».
Лейб-медик
В Санкт-Петербурге Евгений Сергеевич снова приступил к преподавательской работе в Военно-медицинской академии. Его имя становилось все более известным в столичных кругах. Книга «Свет и тени русско-японской войны» для многих открыла новые стороны личности доктора Боткина. Если раньше его знали как высокопрофессионального медика, то письма обнаружили для всех его христианское, любящее, безгранично сострадательное сердце и непоколебимую веру в Бога. Императрица Александра Феодоровна, прочитав «Свет и тени русско-японской войны», пожелала, чтобы Евгений Сергеевич стал личным доктором Императора.
В пасхальное воскресенье, 13 апреля 1908 года, император Николай II подписал указ о назначении доктора Боткина своим лейб-медиком. В связи с этим назначением Евгений Сергеевич был уволен с должности врача для командировок VII разряда при Клиническом военном госпитале. В Общине святого Георгия доктор остался Почетным членом-консультантом и Почетным благотворителем.
Осенью 1908 года семья Боткиных переехала в Царское Село и поселилась в уютном доме с небольшим палисадником на Садовой улице. Старшие сыновья Дмитрий и Юрий стали учиться в Царскосельском лицее, младшие Татьяна и Глеб занимались дома с гувернерами. В воскресные и праздничные дни все дети ходили в храм. Татьяна Боткина вспоминала: «По воскресеньям мальчики помогали священнику во время службы в лицейской церкви. Они приходили задолго до начала службы. Юрий пел в хоре, а глубоко верующий Дмитрий любил погружаться в долгие молитвы». Сам Евгений Сергеевич любил посещать Царскосельский Екатерининский Собор. Здесь находился почитаемый им образ святого великомученика и целителя Пантелеимона с частицей его мощей и ковчег, в котором были помещены большой перст святого великомученика Георгия, часть Древа Господня, Ризы Пресвятой Богородицы и мощи разных святых.
Теперь, после нового назначения, Евгений Сергеевич должен был постоянно находиться при Императоре и членах его семьи, его служба при царском дворе протекала без выходных дней и отпусков. Обычно увольнение в отпуск лейб-медика производилось только по каким-нибудь веским причинам, например по болезни, и только по Высочайшему повелению. Придворным врачам, помимо выполнения своих прямых обязанностей, позволялось заниматься также лечебной практикой в различных медицинских учреждениях и вести частный прием.
Царскую семью обслуживал большой штат врачей, среди которых были самые разные специалисты: хирурги, окулисты, акушеры, дантисты. Так, в 1910 году их было сорок два: пять лейб-медиков, двадцать три почетных лейб-медика, три лейб-хирурга, семь почетных лейб-хирургов, лейб-акушер, лейб-окулист, лейб-педиатр и лейб-отиатр. Многие специалисты имели более высокие звания, чем скромный приват-доцент, но доктора Боткина отличали особый талант диагноста и чувство искренней любви к своим больным.
Как специалист по внутренним болезням, доктор Боткин должен был ежедневно наблюдать за здоровьем августейших пациентов. Утром и вечером он осматривал государя и государыню, их детей, давал медицинское советы, назначал в случае необходимости лечение. Император Николай II относился к своему лейб-медику с большой симпатией и доверием и терпеливо выдерживал все лечебно-диагностические процедуры. Известно, что император отличался физической крепостью и хорошим здоровьем и не нуждался в постоянном наблюдении врача. Поэтому главной пациенткой доктора стала императрица, лечение которой требовало особого внимания и деликатности по причине ее болезненности. Каждый день врач осматривал императрицу в ее спальне. При этом она почти всегда расспрашивала доктора о здоровье своих детей или давала какие-нибудь поручения по делам благотворительности, поскольку Боткин участвовал в тех благотворительных начинаниях, которые курировала императорская семья. Так, в Царском Селе располагались больницы Красного Креста, где впоследствии проходили обучение на звание сестры милосердия императрица Александра Феодоровна и великие княжны Ольга и Татьяна и где впоследствии был открыт офицерский лазарет.
На основании исследований и наблюдений Евгений Сергеевич сделал медицинское заключение о том, что царица страдала «неврозом сердца с ослаблением сердечных мускул». Этот диагноз подтвердили также другие профессора, которых он пригласил на консультацию. Государыню, кроме болезни сердца, постоянно беспокоили отеки и боли в ногах и приступы ревматизма.
Поскольку неврозы сердца развиваются быстро, доктор Боткин советовал государыне избегать чрезмерного напряжения и больше отдыхать. Александра Феодоровна, прислушиваясь к этим рекомендациям, несколько отдалилась от официальной дворцовой жизни. Количество бесконечных официальных встреч при дворе сократилось, и придворные, скучая без ежедневных развлечений, критиковали нового доктора. Так, дворцовый комендант В.Н. Воейков вспоминал, что «благодаря цветущему виду императрицы, никто не хотел верить в ее болезнь сердца, и острили по поводу этого диагноза над лейб-медиком Е. С. Боткиным».
Несмотря на эти остроты, Евгений Сергеевич действовал по совести. Через полгода после вступления в новую должность он писал брату: «Моя ответственность велика не только перед Семьей, где ко мне относятся с большой заботой, но и перед страной и ее историей. Газеты, к счастью, совершенно не знают истины. <…> Я глубоко надеюсь на полное восстановление императрицы, но прежде чем достигнуть этого, мне придется пройти через тяжелые испытания. Я нахожусь между множества огней: одни выражают недовольство тем, что я слишком забочусь о больной; другие находят, что я ею пренебрегаю и мой режим недостаточно эффективен. Что же касается самой больной, то, как мне кажется, она считает, что я слишком добросовестно выполняю свои обязанности.
Я с твердостью перенесу тяжесть всех обвинений и спокойно выполню свой долг, ведомый моей совестью и, делая все возможное, чтобы успокоить разные течения мыслей».
Особое положение лейб-медиков было причиной зависти и недоброжелательности в среде придворных. Не избежал, видимо, клеветы и Евгений Сергеевич. Это видно из его письма к брату: «Есть столько мелочных людей, их махинации так низки и неслыханны, их помыслы так пачкают все, что просто и свято, что нет средств их образумить. <…> Я готов ответить с мужеством за мои поступки, если они действительно мои, а не вымышленные извне. <…> Но, впрочем, это ничего не значит, так как личности, рядом с которыми я нахожусь, так далеки от этой грязи и так бесконечно добры ко мне».
Особенно близкие и дружественные отношения сложились у доктора Боткина с цесаревичем Алексеем, который говорил ему: «Я вас люблю всем своим маленьким сердцем». Мальчик из-за потери аппетита часто отказывался по утрам от завтрака. В таких случаях Боткин садился с ним рядом и рассказывал ему разные веселые истории из своего прошлого или из повседневной жизни. Цесаревич смеялся и за разговором пил свой шоколад и съедал тост с медом или бутерброд со свежей икрой.
После обеда Евгений Сергеевич обычно отправлялся в Санкт-Петербург: он продолжал помогать общине святого Георгия в лечении пациентов. Доктор почти не имел свободного времени, спал по три-четыре часа в день, но никогда не жаловался.
«Самое ценное на земле — душа человеческая…»
Высокая должность и близость к Царской семье не изменили характера доктора Боткина. Он оставался таким же добрым и внимательным к ближним, каким был и раньше. Один из современников вспоминал: «Лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин мог бы служить образцом безграничной, почти евангельской доброты и мягкосердечия; очень образованный и развитый человек, а также прекрасный врач: он не ограничивал свое отношение к пациентам (кто бы они ни были) чисто профессиональным вниманием, а дополнял его ласковым, почти любовным отношением. К сожалению, его некрасивая внешность в связи с несколько преувеличенной, может быть, мягкостью манер не на всех производила хорошее впечатление с самого начала, при первом знакомстве, вызывая сомнение в его искренности. Однако это чувство исчезало при более частых встречах с ним».
В силу своей должности доктор Боткин был свидетелем повседневной жизни Царской семьи, скрытой от посторонних глаз. Он видел их переживания, страдания во время болезней, для него это были люди с их радостями и горем, с их достоинствами и недостатками. Как врач и как деликатный человек, Евгений Сергеевич никогда в частных беседах не касался вопросов здоровья своих высочайших пациентов. Современники с уважением отмечали, что «никому из свиты не удалось узнать от него, чем больна государыня и какому лечению следуют царица и наследник». Об этом не знали не только придворные — не знали даже самые близкие доктору люди.
Семья Романовых много путешествовала. Как лейб-медик, Евгений Сергеевич должен был всегда быть готовым ко всевозможным переездам и перемещениям. Информация о предстоящей поездке являлась секретной, поэтому о выезде зачастую становилось известно перед самым отъездом. Из своих путешествий доктор регулярно посылал письма жене и детям: рассказывал о прогулках с императором, об играх с царевичем, делился своими дорожными впечатлениями, сообщал о необычных покупках. Однажды в Гессене он увидел старинный русский складень, в середине которого находился образ святителя Николая Чудотворца, а по бокам — Казанская и Владимирская иконы Божией Матери. Боткину так понравился этот складень, что он купил его. Об этом он сообщил родным: «Радость это мне доставило двойную: и приобретение самого складня, и извлечение его из неподходящего места с возвращением на родину».
Переписка заменяла Евгению Сергеевичу и его детям личное общение: «Так много хочется и нужно сказать Вам, мои драгоценные мальчики… хоть ежедневными письмами, когда не можешь прийти [к вам] на “посиделки“ и “поболталки“». В письмах они рассказывали друг другу о том, как проводят время, делились своими наблюдениями, переживаниями, скорбями, обсуждали прочитанные книги.
Отношение Евгения Сергеевича к детям было подлинно отцовским и подлинно христианским — в основе этого отношения лежала любовь, которая, по апостолу, «никогда не перестает». Так, в одном из писем он обращался к детям: «Ангелы вы мои! Да хранит вас Бог, да благословит Он вас и да будет Он всегда с вами, как и я всегда с вами, всегда около вас, где бы я ни был. Чувствуйте это, мои ненаглядные, и не забывайте этого. И это уже навсегда! И в этой, и в другой жизни я уже не могу оторваться от вас. Душа, которая так спаялась с вашими чистыми душами, так привыкла звучать с ними в одном тоне, всегда будет, и освобожденная от земного футляра, звучать в том же тоне и должна в ваших душах находить отзвук».
В письмах к близким людям душа человека раскрывается особенно ясно и полно, и письма доктора Боткина детям прекрасно обрисовывают его духовный портрет. Они говорят сами за себя и не требуют комментариев. Вот, например, письмо из Ливадии сыну Юрию: «Самое ценное на земле — это душа человеческая. …Это та частица Бога, которая вложена в каждого человека и которая дает возможность чувствовать Его, веровать в Него и утешаться молитвой к Нему. …Если она добра и чиста, она звучит так дивно, так чудно, как никакая самая великолепная музыка. И вот одно из величайших наслаждений, которые дает медицина, — мало кому, кроме врачей, приходится столько слышать этой дивной музыки хорошей человеческой души».
А вот другое письмо сыну: «Твоя надежда на милость и благость Божью справедлива. Молись, молись Ему, и кайся, и проси помощи, ибо плоть наша немощна, а Дух Его велик, и Он посылает Его тем, кто искренно и пламенно просят Его о Нем. Когда ты ложишься в постель, твори молитвы свои к Нему, твори до тех пор, пока с ними на устах не заснешь, и ты будешь засыпать чистым и умиленным».
Поздравляя сына с днем рождения, Евгений Сергеевич писал ему: «Всем сердцем, всей душой тебе желаю, чтобы ты навсегда сохранил свою доброту, свою сердечность, свою заботливость о ближнем, чтобы судьба дала тебе возможность широко применять эти драгоценнейшие качества природы, называемые одним словом любовью к ближнему, которая была одним из девизов твоего дедушки. Испытания и разочарования при осуществлении этих свойств — неизбежны, но они, как и всякие другие неудачи, не должны расхолаживать человека с волей и сбивать его с раз принятого и соответствующего природе его образа действий».
Рассуждая в одном из писем к сыну об исчезновении целомудрия в обществе, он отмечал: «Чтобы человечество улучшилось в этом отношении, в котором оно ниже животных, пользующихся своими способностями исключительно для продолжения своего рода, как и было предназначено природой, каждый человек должен над собой работать и стараться подчинить свою плоть себе, а не быть у нее в рабстве (как это слишком часто случается), и работа его никогда не пропадет даром; он не только убережет свое тело и свою душу, но и передаст свои завоевания по наследству детям своим. <…> Не надо забывать, что все, что отвоевано у плоти, прилагается духу, и таким путем человек становится выше, духовнее, действительно приближается к образу и подобию Божию».
В одном из писем к сыну доктор размышляет о судьбе Анне Карениной из романа Льва Толстого: «Как ни тяжело было бы ей исполнить свой долг относительно мужа и сына, при сложившихся с первым из них отношениях, это было бы все-таки легче, чем то, что пережила она в погоне за эгоистичным счастьем. Заслуга ее перед этими, по ее же воле связанными с ней людьми, а особенно перед Богом, была бы громадна. Это был бы подвиг самоотвержения. …Но, преклоняясь перед теми, кто все-таки совершает подвиг, люди обязаны быть снисходительными к тем, у которых сил на него не хватает, и не могут не пожалеть тех, которые искупают свою слабость тяжкими страданиями. Так было с Анной Карениной, и потому я и говорю, что она была все-таки хорошей и что ее бесконечно жаль. Жаль, конечно, и ее несчастного мужа, даже Вронского, но больше всех их я жалею ни в чем не повинного сына Карениных».
Вскоре сугубый подвиг самоотвержения и всепрощения пришлось понести самому Евгению Сергеевичу. В 1910 году от него ушла жена, увлекшись молодым студентом Рижского политехнического техникума Фридрихом Лихингером. Доктор ни словом не упрекнул любимую супругу, взяв всю вину за случившееся на себя. Он писал сыну: «Я наказан за свою гордыню. Как прежде, когда мы были так счастливы с мамулей, и у нас были такие совсем особо хорошие взаимные отношения, мы с ней, оглядываясь кругом и наблюдая других, самоуверенно и самодовольно говорили, что как у нас хорошо, что с нами ничего подобного тому, что постоянно бывает у других, нет и не может быть, а затем закончили все наше исключительное супружеское счастье самым банальным разводом». Даже его бывшая супруга в письме к подруге отмечала: «Из добросовестности должна сказать, что Евгений Сергеевич изо всех сил старался помочь мне, и это ему тоже очень тяжело, хотя он и напускает на себя веселость».
По разрешению Святейшего Синода и определению Санкт-Петербургского Окружного суда брак супругов Боткиных был расторгнут. Дети должны были выбрать, с кем из родителей они станут жить. Все четверо решили остаться с отцом, даже десятилетний Глеб. Решение мальчика в этом случае оказалось не по-детски мудрым. «Мама тебя покинула?» — спросил он отца. «Да», — ответил Евгений Сергеевич. «Тогда я останусь с тобой, — сказал Глеб. — Если бы ты ее покинул, то я остался бы с мамой. Но раз она тебя покидает, я остаюсь с тобой!» Таким образом, на попечении доктора Боткина остались все его дети.
Евгений Сергеевич воспринимал эту тяжелую семейную ситуацию как трагедию, в которой виноват он сам. Считая, что он, не сумевший сохранить семью, не может занимать высокую должность лейб-медика императора, доктор подумывал об отставке. Однако Царская семья не желала расстаться с любимым доктором. «Ваш развод ничего не меняет в нашем доверии к вам», — сказала Императрица. И действительно, вся Семья продолжала относиться к нему с прежним уважением и трогательной заботой. Осенью 1911 года, когда Евгений Сергеевич разбил колено и вынужден был лежать в своей каюте на яхте «Штандарт», его постоянно навещали Императрица, княжны, цесаревич Алексей, заходил проведать больного и Государь. По разрешению Императрицы его навещали младшие дети Татьяна и Глеб. Татьяна потом вспоминала: «Я была очень растрогана, когда увидела, с какой доверчивостью относились Царские дети к нашему отцу». Сам же доктор, до глубины души тронутый заботливым отношением к нему императорской семьи, говорил: «Своей добротой Они сделали меня рабом Своим до конца дней моих».
В один из дней, когда у больного Евгения Сергеевича были в гостях его дети, произошел забавный случай. Его подметила наблюдательная Татьяна Боткина. «Перед каждой консультацией отец обязательно мыл руки, но так как он не вставал, то просил своего камердинера подать ему тазик. Камердинер не понял, чего от него хотят, и принес хрустальную вазу для фруктов. Отец удовольствовался этим и попросил меня ему помочь. Великие Княжны находились тут же, и я видела, как их внимательный взгляд следил за мной, в то время как я взяла вазу, наполнила ее водой, а другой рукой взяла мыло и перекинула себе полотенце через плечо. Все вместе я подала отцу. Анастасия засмеялась: „Евгений Сергеевич, почему вы моете руки в вазе для фруктов?“ Отец объяснил ей ошибку камердинера, и она стала смеяться еще больше». Этот казус, вместе с добродушной улыбкой, вызывает уважение к удивительному внутреннему благородству доктора Боткина. С какой деликатностью и любовью он относился ко всем, в том числе и к слугам!
Бывая на яхте «Штандарт», Татьяна и Глеб познакомились с царевичем, которому недавно исполнилось семь лет. Алексей сразу же стал их экзаменовать по устройству яхты и очень удивлялся, что Татьяна и Глеб так плохо разбираются в навигации. К счастью, на помощь пришел доктор Боткин: он объяснил Царевичу, что его дети еще никогда не были в море. Но вскоре внимание Алексея переключилось на другое: он вдруг увидел костыли доктора, которые стояли у кровати. Он взял один костыль и просунул в него голову, затем закрыл глаза и закричал: «Вы меня еще видите»? Он был твердо уверен, что стал невидимым, и его лицо приняло такое серьезное и значительное выражение, что все присутствующие не могли удержаться и громко рассмеялись. Цесаревич поблагодарил гостей очаровательной улыбкой, пожал торжественно всем руку и вышел, сопровождаемый матросом Деревенько.
Дети Евгения Сергеевича подружились с Императорскими детьми, на отдыхе в Крыму они часто играли вместе, а в период учебного года переписывались.
Лечение цесаревича
Кроме императрицы, в особом внимании со стороны медиков нуждался цесаревич. Алексея лечили лучшие врачи России, среди которых были лейб-хирург профессор С. П. Федоров, лейб-педиатр К. А. Раухфус, профессор С. А. Острогорский, доктор С. Ф. Дмитриев и другие. С зимы 1912 года главным лечащим врачом цесаревича стал почетный лейб-хирург Владимир Николаевич Деревенко. Помогал им и доктор Боткин.
Наследственная болезнь царевича, гемофилия, была неисцелима. При неосторожных движениях, ударах возникали внутренние кровоизлияния, причинявшие ребенку нестерпимую боль. Часто кровь, скапливаясь в суставе лодыжки, колена или локтя, давила на нерв и вызывала сильные страдания. В таких случаях помог бы морфий, но царевичу его не давали: наркотик был чрезвычайно опасен для юного организма. Лучшими средствами в такой ситуации признавались постоянные упражнения и массаж, но при этом существовала опасность повторного кровотечения. Для выпрямления конечностей Алексея были сконструированы особые ортопедические приспособления. Кроме того, он принимал горячие грязевые ванны.
Доктор Боткин осознавал, какая огромная ответственность лежит на придворных медиках. «Перед нами еще такая всероссийская, отечественная забота: здоровье Наследника… что о своих делах и не смеешь и не хочешь даже думать», — писал он сыну. Болезнь Алексея держала Евгения Сергеевича в непрестанном напряженном внимании: любой нечаянный ушиб мог быть опасным не только для здоровья, но и для жизни цесаревича.
Осенью 1912 года, во время пребывания Царской семьи на отдыхе в Восточной Польше, с царевичем произошел несчастный случай. Прыгая в лодку, мальчик ударился об уключину, у него началось внутреннее кровотечение, образовалась опухоль. Однако вскоре ему стало лучше, и его перевезли в Спалу. Там ребенок допустил неосторожность и снова упал, в результате чего возникло новое обширное кровоизлияние. Медики признали состояние Алексея крайне опасным. Ребенок сильно страдал, болевые спазмы повторялись почти каждые четверть часа, от высокой температуры он бредил и днем и ночью. Спать он почти не мог, плакать тоже, только стонал и говорил «Господи, помилуй».
Положение было очень серьезным. Около Алексея постоянно находились врачи, дежурили родители, сестры. Во всех храмах России служились молебны о выздоровлении цесаревича. Поскольку в Спале не было храма, в парке поставили палатку с небольшой походной церковью, где утром и вечером совершались богослужения. 10 октября царевича причастили. Это лекарство оказалось действеннее всех: Алексею сразу стало лучше, температура спала, боли почти прошли.
Доктор Боткин постоянно находился рядом с царевичем, заботился о нем, а при угрожающих жизни приступах сутками не отходил от постели больного. В письмах, которые он в это время писал из Спалы своим детям, он постоянно говорит об Алексее Николаевиче:
«9 октября 1912 года. Я не в силах передать вам, что я переживаю… я ничего не в состоянии делать, кроме как ходить около Него… ни о чем не в состоянии думать, кроме как о Нем, о его Родителях… Молитесь, мои детки… Молитесь ежедневно, горячо за нашего драгоценного Наследника…
14 октября. Ему лучше, нашему бесценному больному. Бог услышал горячие молитвы, столькими к нему возносимые, и Наследнику положительно стало лучше, слава Тебе, Господи. Но что это были за дни! Как годы, легли они на душу…
19 октября. Нашему драгоценному больному, слава Богу, значительно лучше. Но писать я все-таки еще не успеваю: целый день около него. По ночам тоже еще дежурим…
22 октября. Нашему драгоценному наследнику, правда и несомненно, значительно лучше, но он еще требует большого ухода, и я целый день около него, за очень малыми исключениями (трапезы и т.п.), и каждую ночь дежурил — ту или другую половину. Теперь иззяб, как всегда, и совершенно не в силах был писать, и, благо, наш золотой больной спал, сам уселся в кресло и вздремнул…».
Болезнь цесаревича открыла двери во дворец тем людям, которых рекомендовали Царской семье как целителей и молитвенников. В их числе появился во дворце и сибирский крестьянин Григорий Распутин. Измученная постоянной тревогой за Алексея, императрица видела в Распутине свою последнюю надежду и безоговорочно верила в его молитвы. Так, Александра Феодоровна была уверена, что сын после травмы в Спале стал поправляться по молитвам Григория Распутина. Государь же, как видно из его дневниковых записей, в этом случае большее значение придавал церковным Таинствам. В своем дневнике он отметил, что царевичу стало лучше после причастия: «10 октября 1912. Сегодня, слава Богу, наступило улучшение в состоянии здоровья дорогого Алексея, температура спустилась до 38,2. После обедни, отслуженной законоучителем детей о. Васильевым, он принес Св. Дары к Алексею и причастил его. Такое было утешение для нас. После этого Алексей провел день совсем спокойно и бодро».
Учитель Алексея Николаевича Пьер Жильяр удивлялся тому смирению, с которым доктора Боткин и Деревенко несли свое служение, не ожидая ни благодарности, ни признания своих заслуг. Когда цесаревич, благодаря их самоотверженным трудам, поправлялся, это исцеление часто приписывалось исключительно молитвам Распутина. Жильяр видел, что эти удивительные врачи «отказались от всякого самолюбия, они находили поддержку в чувстве глубокой жалости, которую испытывали при виде смертельной тревоги родителей и мук этого ребенка». В тобольской ссылке, когда Распутина уже не было рядом, доктора Боткин и Деревенко, как обычно, трудились с самоотвержением, и им по-прежнему удавалось облегчать страдания царевича при кровоизлияниях, даже не имея всех необходимых лекарств.
Евгений Сергеевич относился к Распутину с нескрываемой антипатией. Когда доктор впервые встретился с ним, тот произвел на него впечатление «грубого мужика, который довольно фальшиво играет роль старца». Однажды Александра Феодоровна лично попросила доктора Боткина, чтобы тот принял Распутина на дому как больного. Боткин ответил, что в медицинской помощи ему отказать не может, но видеть его у себя дома не желает, поэтому поедет к нему сам. Но, не испытывая к Распутину особенного расположения, Евгений Сергеевич в то же время не винил его, как это делали некоторые, во всех бедах Царской семьи. Он осознавал, что революционно настроенная часть общества просто использует имя Распутина, чтобы скомпрометировать Царскую семью: «Если бы не было Распутина, то противники Царской семьи и подготовители революции создали бы его своими разговорами из Вырубовой, не будь Вырубовой, из меня, из кого хочешь».
Сам Боткин никогда не затрагивал эту тему в разговорах с другими и пресекал распространение сплетен. При нем опасались заводить разговоры, которые могли бы каким-либо образом задеть Царскую семью. «Я не понимаю, как люди, считающие себя монархистами и говорящие об обожании Его Величества, могут так легко верить всем распространяемым сплетням, — возмущался Евгений Сергеевич, — как они могут сами их распространять, возводя всякие небылицы на Императрицу, и не понимают, что, оскорбляя ее, они тем самым оскорбляют ее августейшего супруга, которого якобы обожают».

Последние годы мирной жизни
Царская семья чувствовала любовь и преданность своего лейб-медика и относилась к нему с глубоким уважением. Показателен такой случай. Однажды, ухаживая за Великой княжной Татьяной, которая была больна тифом, Евгений Сергеевич сам заразился этой болезнью. К этому добавилось физическое и нервное перенапряжение, и доктор слег в постель. В Россию из Лиссабона срочно приехал его брат Петр, вызванный телеграммой, и сразу встретился с Императором. Николай II, серьезно обеспокоенный здоровьем своего лейб-медика, сказал Петру: «Ваш брат слишком много работает, он трудится за десятерых! Ему необходимо куда-то поехать отдохнуть». Петр возразил, что Евгений Сергеевич сам ни за что не оставит своего служения. «Это правда, — согласился император, — но я сам прикажу ему поехать в отпуск». Вскоре после этого разговора Евгений Сергеевич с детьми поехал отдыхать в Португалию.
Такая забота Его Величества о докторе Боткине была продиктована не простой вежливостью, но самым искренним расположением. «Ваш брат для меня больше, чем друг», — сказал Петру Николай II, и это признание стоило многого.
В 1912 году Царская семья поехала на отдых в Ливадию: там год назад был построен и освящен новый дворец. Крымский климат способствовал выздоровлению царевича Алексея после травмы в Спале. Для того чтобы окончательно вылечить паралич левой ноги, Евгений Сергеевич рекомендовал ему применять грязевые ванны. Два раза в неделю целебную грязь доставляли в Ливадию из курортного местечка Саки в специальных бочках на борту эскадронного миноносца, и в тот же день ее надо было использовать. Доктора Боткин и Деревенко в присутствии государыни накладывали аппликацию на ногу маленького пациента. Лечение пошло наследнику на пользу. Он начал нормально ходить и вновь стал жизнерадостным ребенком.
Особенно продолжительным, около четырех месяцев, было пребывание в Ливадии Царской семьи и придворных, в том числе доктора Боткина, в 1913 году, после празднования 300-летия дома Романовых. В следующем, 1914 году, Евгений Сергеевич снова в течение некоторого времени жил в Ливадии. В письмах детям он рассказывал о взаимоотношениях с цесаревичем, играх с ним, занятиях, различных происшествиях. Например, он описывал такой случай в поезде: «Сегодня Алексей Николаевич обходил вагоны с корзиночкой маленьких дутых яиц, которые он продавал в пользу бедных детей по поручению Великой Княгини Елизаветы Феодоровны, севшей к нам в поезд в Москве. Когда я увидал, что в корзиночке у него все больше трехрублевки, я поспешил положить 10 рублей и тем самым заставил и других господ из свиты раскошелиться. За каких-нибудь полчаса у Алексея Николаевича было уже свыше 150 рублей».
Время Великого поста 1914 года Евгений Сергеевич также провел в Ливадии. Он строго постился, посещал богослужения в Крестовоздвиженской дворцовой церкви. Из Ливадии он писал детям: «Долгие службы, благодаря дивному служению отца Александра, простаиваются легко, производят сильное впечатление и надолго создают особое настроение. В четверг мы все приобщались, и я не мог удержать слезы умиления, когда Царь и Царица клали земные поклоны, кланялись нам многогрешным, и вся Царская семья приобщалась. <…> Создается настроение, при котором Светлое Христово Воскресение действительно почувствуешь Праздником Праздников».
Пасху доктор встречал также в Крыму. Будучи вдали от своих детей, он, тем не менее, старался каждого согреть и утешить своей любовью: к Пасхе каждый из детей получил от отца подарок. Дети же, оставшиеся в Царском Селе, в свою очередь, послали подарки ему. Татьяна вспоминала: «Мальчики получили по несколько золотых пятирублевок, а я — небольшое украшение — уральский самоцвет, в форме маленького яичка. <…> Мы со своей стороны послали папе со спецкурьером придворной канцелярии разные сласти. Дмитрий и Юрий превзошли себя, и после церковной службы в Страстной четверг они весь вечер расписывали разными миниатюрами яйца… Отец получил нашу посылку в пасхальную ночь и был очень тронут».
Царская семья и свита вернулись из Ливадии 5 июля 1914 года, а через несколько недель началась Первая мировая война. Евгений Сергеевич обратился с просьбой к государю направить его на фронт для реорганизации санитарной службы. Однако император поручил ему оставаться при государыне и детях в Царском Селе, где их стараниями стали открываться лазареты.
Доктор Боткин в это время продолжал активно участвовать в деятельности Красного Креста: инспектировал крымские госпитали, по просьбе императрицы помог устроить в Крыму санаторий, организовать санитарный поезд для перевозки в Крым раненых. Еще в мирное время Александра Феодоровна хотела построить в Массандре приют для туберкулезных больных, однако война изменила планы. Вместо приюта был построен новый санаторий — «дом для выздоравливающих и переутомленных». Евгений Сергеевич был включен в состав комиссии по приему здания и вскоре телеграфировал императрице: «Дом Вашего Величества в Массандре чрезвычайно удался, вполне обитаем, <…> с 15 марта могут поступать раненые и больные». У себя дома в Царском Селе Евгений Сергеевич также устроил лазарет для легкораненых, который посещала Императрица с дочерьми. Однажды доктор привез туда цесаревича, который хотел навестить раненых солдат.
В это время каждая русская душа чувствовала особую нужду в молитве. И Царская семья, и Евгений Сергеевич с детьми часто молились за литургиями в Феодоровском государевом соборе. Татьяна вспоминала: «Я никогда не забуду того впечатления, которое меня охватило под сводами церкви: молчаливые стройные ряды солдат, темные лики святых на почерневших иконах, слабое мерцание немногих лампад и чистые, нежные профили Великих Княжон в белых косынках наполняли душу умилением, и жаркие слова молитвы без слов за эту Семью, самых скромных и самых великих русских людей, тихо молившихся среди любимого ими народа, вырывались из сердца».
Первая мировая война потребовала от России мобилизации всех сил, и прежде всего военных. Евгений Сергеевич, очень любивший своих юных сыновей, тем не менее, не воспрепятствовал их желанию пойти на войну. Ни слова сомнения или сожаления не услышали они от отца, по личному опыту знавшего, как неразлучны война и смерть, причем смерть зачастую мучительная. Только Господу известно, какие внутренние страдания вытерпел Евгений Сергеевич, хорошо помнивший пережитую им боль из-за смерти сына-младенца и, тем не менее, жертвовавший двумя другими сыновьями ради блага родины.
В первый же год войны Дмитрий Боткин — выпускник Пажеского корпуса, хорунжий лейб-гвардии казачьего полка — героически погиб, прикрывая отход разведывательного казачьего дозора. Гибель сына, посмертно награжденного за героизм Георгиевским крестом IV степени, причинила Евгению Сергеевичу сильные душевные страдания. Однако он принял это без ропота и отчаяния, более того — с гордостью за сына: «Меня нельзя рассматривать как несчастного, невзирая на то, что я потерял сына и многих друзей, которые мне были особенно дороги, — писал он. — Нет, решительно я счастлив тем на этой земле, что имел такого сына, как мой любимый Митя. Я счастлив, так как проникся священным восхищением этим мальчиком, который без колебаний, с прекрасным порывом, отдал свою совсем молодую жизнь во имя чести своего полка, армии, своего Отечества».
Арест
В феврале 1917 года в России произошла революция, 2 марта государь подписал Манифест об отречении от престола. По настоянию Петроградского Совета и постановлению Временного правительства с 7 марта 1917 года Государыня с детьми были арестованы и заключены под стражу в Александровском дворце. Императора в это время в Царском Селе не было. И без того тяжелая ситуация осложнялась еще и болезнью детей: от кого-то из своих товарищей по детским играм заразился корью Алексей Николаевич, а вскоре заболели и его сестры. Температура у детей все время была высокой, их мучил сильный кашель. Доктор Боткин дежурил у постелей больных, почти не отлучаясь от них, пока они не поправились.
Вскоре в Царское Село приехал Император и присоединился к арестованным. Евгений Сергеевич, как и обещал, не оставил своих царственных пациентов: он остался с ними, несмотря на то, что должность его была упразднена, и ему перестали выплачивать жалованье. В то время, когда многие старались скрыть свою причастность к императорскому двору, Евгений Сергеевич и не думал прятаться.
Жизнь доктора Боткина в этот период мало чем отличалась от жизни до ареста Царской семьи: он делал утренние и дневные обходы больных, занимался их лечением, писал письма детям или разговаривал с ними по телефону. Во второй половине дня цесаревич часто приглашал Боткина во что-нибудь с ним поиграть, а в шесть часов вечера Евгений Сергеевич неизменно обедал со своим маленьким пациентом. После выздоровления царевичу надо было продолжать учиться. Однако, поскольку преподавателям запретили посещать дворец, члены «медико-педагогического триумвирата» — господин Жильяр, доктора Деревенко и Боткин — начали заниматься с Алексеем Николаевичем сами. «Мы все распределили его предметы между собой, кто во что горазд. Мне достался русский язык в размере четырех часов в неделю», — писал Евгений Сергеевич сыну Юрию.
В эти смутные дни доктор много читал, в особенности газет, в том числе зарубежных. Как сам он писал, «никогда в жизни я не читал их так много, в таком количестве, так обстоятельно и с такой жадностью и интересом» — очевидно, ища сведений о том, как относится ко всему происходящему российская и мировая общественность. В одной из немецких республиканских газет он нашел такое мнение об отречении русского Императора: «Манифест, которым царь слагает с себя верховную власть, являет собой благородство и высоту мысли, достойные восторга. Он не содержит ни тени горечи, ни упреков, ни сожаления. Он проявляет полное самопожертвование. Он желает России в самых горячих выражениях осуществления ее главных назначений. Тем способом, которым он сходит с трона, Николай II оказывает своей стране последнюю услугу — самую большую, которую он мог оказать в настоящих критических обстоятельствах. Очень жаль, что Государь, одаренный такой благородной душой, поставил себя в невозможность продолжать править». Доктор отозвался об этой статье так: «Эти золотые слова сказаны в республиканской газете свободной страны. Если бы наши газеты так писали, они бы гораздо больше послужили тому делу, которому хотят помочь, чем клеветой и пасквилями».
Дни арестантов проходили размеренно — в совместных трапезах, прогулках, чтении и общении с близкими людьми, в регулярных церковных службах. Для совершения богослужений, исповеди и причащения во дворец был приглашен настоятель Царскосельского Феодоровского собора протоиерей Афанасий Беляев. Дневник этого священника — наглядное свидетельство того, насколько глубокую духовную жизнь вели в это время и царственные узники, и их верные слуги.
«27 марта. Служил Литургию, читал за каждым часом Евангелие от Иоанна, прочитал три главы. За Литургией были и усердно молились: б. и. Николай Александрович, Александра Феодоровна, Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна и все живущие приближенные к ним лица: Нарышкина, Долгорукова, Гендрикова, Буксгевден, Долгоруков, Боткин, Деревенко и Бенкендорф, стоявший отдельно и углубленный в молитвенник, много было и служащих говеющих.
31 марта. В 12 часов дня пошел в церковь исповедовать готовящихся к Причастию. Всех исповедующихся оказалось 42 человека, в том числе два доктора: Боткин и Деревенко.
31 марта. В 7 1/2 часов началась субботняя утреня, за которою мною был прочитан так называемый плач над плащаницей и был совершен крестный ход с несением плащаницы через алтарь кругом престола, входя в алтарь северными дверями и выходя южными, обходя по комнатам около стен круглого зала и возвращаясь опять в церковь к Царским вратам и обратно, на середину храма. Плащаницу несли князь Долгоруков, Бенкендорф и доктора Боткин и Деревенко, за ними шли Николай Александрович, Александра Феодоровна, Татьяна и Ольга Николаевны, свита и прислуга с зажженными свечами».
В это время ходатаем о помощи и спасении Царской семьи стал брат Евгения Сергеевича Боткина — Петр Сергеевич, бывший послом в Португалии. Он отличался монархическими взглядами, был опытным и авторитетным дипломатом. В течение 1917 года он отправил несколько писем представителям французского правительства с призывами оказать помощь томящейся в заключении Царской семье. Так, послу Франции он писал: «Нужно освободить Императора из того опасного и унизительного положения, в котором Он находится со времени своего ареста. От Франции я жду этот прекрасный и благородный жест, который будет должным образом оценен историей». В другом письме он говорил: «Господин посол, я позволяю себе вновь вернуться к вопросу, который такой тяжестью лежит у меня на душе: освобождению Его Величества Императора из заключения. Надеюсь, Ваше Превосходительство простите мне мою настойчивость. Меня толкают на это вполне естественные чувства преданности подданного к своему бывшему Монарху, и в то же время мне кажется, что я выражаю точку зрения искреннего друга Франции, который заботится о сохранении неприкосновенности уз, связывающих наши две страны». Ответов на письма не было.
В апреле 1917 года Александровский дворец посетил Министр юстиции А. Ф. Керенский. Доктор Боткин, встретившись с ним, просил позволить Царской семье выехать в Ливадию: дети, которые только что перенесли тяжелую корь, были крайне слабы и болезненны, к тому же у царевича Алексея обострилась гемофилия. Однако Керенский решил отправить императорскую семью в Тобольск. Причину отказа он впоследствии объяснял так: «Царю очень хотелось отправиться в Крым… Туда один за другим направлялись его родственники, прежде всего вдовствующая императрица. Собственно говоря, съезд в Крыму представителей свергнутой династии уже начинал вызывать беспокойство. <…> Тобольск я предпочел исключительно потому, что он был действительно изолирован, особенно зимой. <…> Вдобавок я знал о прекрасном тамошнем климате и вполне подходящем губернаторском доме, где императорская семья могла бы устроиться с определенным комфортом».
30 июля, в день рождения цесаревича Алексея, состоялась последняя Божественная литургия в Александровском дворце. Все горячо, со слезами и коленопреклоненно молились, просили у Господа помощи и заступления от бед и напастей. После Литургии был отслужен молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Знамение». В ночь на 1 августа семья Романовых с близкими слугами направилась поездом в Тюмень. Их сопровождал специально сформированный Отряд особого назначения из гвардейцев под командованием полковника Е. С. Кобылинского. Последними словами Государя перед отъездом были: «Мне жаль не себя, а тех людей, которые из-за меня пострадали и пострадают. Жаль Родину и народ!»
Приближенным императора был еще раз предложен выбор: либо находиться с узниками и разделить с ними заключение, либо покинуть их. И этот выбор был поистине страшен. Все понимали, что остаться в этой ситуации с Государем — значит обречь себя на различные тяжкие лишения и скорби, на заключение, а может быть, и на смерть. Принадлежать ко двору стало опасно. Многие тогда отказались сопровождать Государя. Некоторые даже, чтобы отклонить от себя всякие подозрения в причастности ко двору, отпороли императорские инициалы со своих погон. Иные, прежде выставлявшие напоказ свои монархические убеждения, теперь «уверяли каждого в своей верности революции и осыпали оскорблениями Императора и Императрицу, и в разговорах именовали Его Величество не иначе как полковником Романовым или просто Николаем».
Генерал П. К. Кондзеровский в своих мемуарах передает разговор на эту тему с лейб-медиком императорского двора, профессором С. П. Федоровым: «Надо сказать, что тогда все мы были уверены, что Государь со своей семьей выедет за границу. И вот, Федоров сказал несколько таких фраз, которые, должен сказать прямо, больно резанули меня по сердцу. Почему-то, говоря о Государе, он не назвал его ни «Государь», ни «Его Величество», а говорил «он». И это «он» было ужасно!… Он стал говорить, что совершенно не знает, кто из докторов будет сопровождать Государя за границу, ибо прежде это было просто: «он» пожелает, чтобы ехал такой-то, ну и едет; теперь же другое дело. У Боткина большая семья, у Деревеньки тоже, и у него тоже. Бросать семью, все дела и ехать с «ним» за границу — это не так просто».
Однако именно эти два доктора, Боткин и Деревенко, оказались среди немногих, кто добровольно последовал за Государем, отправившись с ним не за границу, а в тобольскую ссылку — несмотря на то, что у них, действительно, были большие семьи. Когда император спросил Евгения Сергеевича, как же он оставит детей, доктор твердо ответил, что для него нет ничего выше, чем забота об Их Величествах. Кстати сказать, на полковника Кобылинского произвела большое впечатление верность доктора Боткина Царской семье: он с изумлением и уважением говорил, что Боткин даже за глаза называл Государя и Государыню не иначе, как Их Величествами.
Тобольск
Итак, два царских поезда под флагом Японской миссии Красного креста с зашторенными окнами ехали в начале августа в Тюмень, останавливаясь для пополнения запасов угля и воды только на маленьких станциях. Иногда остановки делались в безлюдных местах, где пассажиры могли выйти из вагонов, чтобы немного прогуляться. В Тюмени пересели на пароход. Во время этого длительного переезда Алексей и Мария простудились; у царевича, кроме того, сильно болела рука, и он по ночам часто плакал. Заболел и их учитель Пьер Жильяр: у него появились язвы на руках и ногах, и ему требовались ежедневные сложные перевязки. Возле них постоянно дежурил Евгений Сергеевич, так что к вечеру от утомления он еле стоял на ногах.
К моменту прибытия Царской семьи бывший дом тобольского генерал-губернатора еще не был готов, так как из него только накануне выехал местный Совдеп, оставив помещения дома неубранными: повсюду были мусор, грязь, не работала канализация. Поэтому, пока шел ремонт, всем пассажирам вместе с охраной неделю пришлось жить на пароходе. 13 августа Царская семья переехала в губернаторский дом, а свита, включая доктора Боткина, разместилась напротив, в доме рыботорговца Корнилова. Там было очень грязно, и не было совершенно никакой мебели. Примечательно, что улица, на которой находился этот дом, еще не так давно носила название Царской. Теперь она, по распоряжению властей, была переименована в улицу Свободы. Евгению Сергеевичу выделили в доме две комнаты, чему он был очень рад, так как в них могли после приезда в Тобольск разместиться его дети.
Условия жизни Царской Семьи в тобольской ссылке поначалу были довольно сносными. При полковнике Кобылинском, который был первое время начальником охраны, «режим был такой же, как в Царском, даже свободней. Никто не вмешивался во внутреннюю жизнь семьи. Ни один солдат не смел входить в покои. Все лица свиты и вся прислуга свободно выходили, куда хотели». Однако 1 сентября в Тобольск прибыл комиссар Временного правительства В.С. Панкратов, при котором жизнь арестантов стала гораздо более стесненной. Солдаты с каждым днем становились грубее. С комиссаром постоянно возникали споры по поводу прогулок. Переговоры обычно велись через доктора Боткина, который, видя противодействие комиссара, вынужден был обратиться к Керенскому с просьбой разрешить прогулки. Даже всегда сдержанный государь с возмущением отметил в своем дневнике: «На днях Е. С. Боткин получил от Керенского бумагу, из которой мы узнали, что прогулки за городом нам разрешены. На вопрос Боткина, когда они могут начаться, Панкратов, поганец, ответил, что теперь о них не может быть речи из-за какой-то непонятной боязни за нашу безопасность. Все были этим ответом до крайности возмущены».
Евгений Сергеевич также обращался к Панкратову с просьбами от Государыни, — и они тоже часто оставались неисполненными. Одним словом, комиссар Панкратов являлся и для Царской семьи, и для доктора Боткина источником постоянных тревог, огорчений и неприятностей. Тем удивительнее было незлобие Евгения Сергеевича по отношению к комиссару. Находясь в положении арестанта, он даже делился со своим надзирателем необходимыми вещами. Так, однажды в городе доктору Боткину удалось купить очень хорошую двуспальную березовую кровать, а также хороший матрац к ней. Он с юмором говорил, что нежно полюбил эту кровать, и она его «в известный момент влечет к себе неудержимо». В нескольких письмах он делился своей радостью по поводу удачной покупки со своими детьми, размышляя о том, кому ее лучше предложить: Татьяне или Глебу, когда они приедут. Однако когда он узнал, что комиссару Панкратову из-за неожиданного приезда не на чем спать, то не раздумывая отдал эту кровать ему.
Письма доктора Боткина за этот период поражают своим подлинно христианским настроением: ни слова ропота, осуждения, недовольства или обиды, но благодушие и даже радость. Он писал о том, что ему нравится Тобольск, который он называет «богобоязненным городом», так как «на 2200 жителей здесь 27 церквей и все такие старинные, красивые». «А какая милая комната у меня, если бы ты только видел, и как в ней хорошо! Еще мебели кое-какой недостает», — писал он сыну. И с детским восторгом описывал тобольские пейзажи: «Удивительно красиво здесь умеет окрашиваться небо. Сейчас, например, у нас 7 ½ час. вечера… и перед моими западными окнами… такая красота, что трудно оторваться: слева зеленеет, шумя в вечерних тенях, край городского сада, за которым уютно смотрит на меня, лишь с одного края прикрытый деревьями, аппетитный простой двухэтажный белый дом». В чем была причина такого спокойствия духа? Несомненно, в полной преданности воле Божией и в совершенном уповании на Его благой промысл. Доктор Боткин об этом так и говорит: «Поддерживает только молитва и горячее безграничное упование на милость Божию, неизменно нашим Небесным Отцом на нас изливаемую».
Большим утешением для арестантов была возможность посещать богослужения. Сначала церковные службы проводились в губернаторском доме, в большом зале верхнего этажа. Для их совершения приходили священник Благовещенской церкви с диаконом и монахини Иоанновского монастыря. Комиссар Панкратов описывал эти богослужения так: «В зал собиралась свита, располагалась по рангам в определенном порядке, сбоку выстраивались служащие, тоже по рангам. <…> Вся семья набожно крестилась, свита и служащие следовали движениям своих бывших повелителей. Помню, впервые на меня вся эта обстановка произвела сильное впечатление». За неимением антиминса нельзя было служить литургию, что было огромным лишением для всех. Наконец, 8 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, узникам позволили в первый раз отправиться в Благовещенскую церковь на раннюю литургию. Вскоре, однако, снова пришлось служить в губернаторском доме в переносной церкви.
14 сентября в Тобольск к Евгению Сергеевичу прибыли дочь Татьяна и сын Глеб. Они разместились в комнатах, отведенных отцу. Совместная жизнь с детьми наполняла душу Евгения Сергеевича счастьем и радостью. При всей своей занятости он старался находить время для общения с ними. Он, как и раньше, делился с ними всеми своими переживаниями, мыслями.
Из сохранившихся писем видно, что в этот период доктор Боткин особенно остро переживал за своих детей: из-за него они вынуждены были жить в ссылке, терпеть разные неудобства, и ему казалось, что он для них в тягость. Кроме того, у него возникали проблемы в общении с семнадцатилетним сыном Глебом, для которого мнения отца «потеряли всякую цену» и который своими безапелляционными суждениями часто огорчал Евгения Сергеевича. Отец писал об этом сыну Юрию: «Эту несдержанность проявления своего настроения, которой он [Глеб] всегда отличался, он называет пребыванием “без маски“; он считает, что он имеет право быть таким дома. Мне же всегда казалось страшно несправедливым со стороны семейных людей, сдерживающих себя перед чужими и любезно улыбающихся им, а потом срывавших накопившееся недовольство и раздражение на домашних. Нельзя так распускать себя по отношению к ни в чем неповинным людям. <…> Ты сам знаешь, что я не ношу перед вами никакой маски, я не скрывал и не скрываю своих тревог и огорчений, приобретенных вне дома, если этого не требует врачебная или служебная тайна, но я первый всегда старался и стараюсь дать пример бодрого к ним отношения и не позволить им нарушить домашний душевный уют».
В Тобольске Евгений Сергеевич продолжал выполнять свои обязанности. Утро и вечер он обычно проводил с Царской семьей, а днем принимал и посещал больных, в том числе и простых горожан. Ученый, много лет общавшийся с научной, медицинской, административной элитой России, он смиренно служил, как земский или городской врач, простым крестьянам, солдатам, рабочим и мещанам. При этом он вовсе не тяготился такими пациентами, наоборот, очень тепло описывал выезды к ним: «К кому только меня не звали, кроме больных по моей специальности: к сумасшедшим, просили лечить от запоя, возили в тюрьму пользовать клептомана, и я с истинной радостью вспоминаю, что этот бедный парень, взятый по моему совету своими родителями (они крестьяне) на поруки, вел себя все остальное время моего пребывания прилично… Я никому не отказывал». Как сам он позже писал, «в Тобольске я всячески старался заботиться „о Господнем, како угодити Господу“… И Бог благословил мои труды, и я до конца своих дней сохраню это светлое воспоминание о своей лебединой песне. Я работал изо всех своих последних сил, которые неожиданно разрослись там, благодаря великому счастию совместной жизни с Танюшей и Глебушкой, благодаря хорошему, бодрящему климату и сравнительной мягкости зимы и благодаря трогательному отношению ко мне горожан и поселян».
Брат доктора Боткина, Петр Сергеевич, по-прежнему хлопотал об освобождении царственных узников. Узнав о ссылке Царской семьи и своего брата в Тобольск, он направил послу Франции очередное письмо: «Итак, Монарх, который всегда думал только о благе своей страны и который, даже отрекаясь от престола, действовал в высшем интересе страны, задержан, затем лишен свободы и, наконец, отправлен в изгнание. Я не буду останавливаться на факте явной несправедливости такого образа действий по отношению к Монарху, сложившему с себя власть. История произнесет в свое время свой справедливый и неумолимый приговор, но на нас, сознательных свидетелей событий, выпадает неизбежный долг улучшить унизительное и тяжелое положение Его Величества Императора и соединить все наши усилия, чтобы положить этому предел». Ответом со стороны союзной державы стало, по выражению Петра Сергеевича, «официальное молчание»: никаких действий по спасению Императора Франция не предприняла.
Относительно спокойная жизнь Царской семьи в Тобольске длилась недолго. После захвата власти большевиками положение арестантов стало более трудным как в нравственном, так и в материальном отношении, семью Романовых перевели на солдатский паек — 600 рублей в месяц на человека. По выражению князя Долгорукова, для узников наступило печальное и смутное время, а Пьер Жильяр выразился так: «Большевики отняли благополучие у Царской семьи, как и у всей России».
Утешение узникам доставляло взаимное общение и глубокая духовная жизнь. По вечерам они обычно собирались в доме губернатора и вместе читали. Во время Великого поста все узники строго постились, исповедовались и причащались. Государь каждый день вслух читал Евангелие.
Для того чтобы царские дети не скучали зимними вечерами, учителя решили устраивать маленькие спектакли. В этом принимали участие все, кроме государыни. Доктор Боткин отказывался играть, ссылаясь на необходимость посещать своих городских пациентов. «Кроме того, ведь кто-то должен быть и зрителем?» — улыбался он. Однажды вечером к нему подошел Алексей Николаевич. «Евгений Сергеевич, — сказал он серьезно, — у меня к вам большая просьба. В одном из наших будущих спектаклей есть пожилой доктор, и вы обязательно должны принять там участие. Пожалуйста, сделайте это для меня». У Евгения Сергеевича не хватило духу отказать. Но обстоятельства сложились так, что он не смог доставить своему маленькому пациенту это последнее удовольствие.
22 апреля 1918 года в Тобольск прибыл чрезвычайный комиссар ВЦИК В. В. Яковлев, который сообщил о том, что должен увезти Царскую семью. Но поскольку незадолго до этого царевич упал и у него началось внутреннее кровотечение, ехать он не мог. Александре Феодоровне пришлось выбирать — ехать с супругом или оставаться возле больного сына. После мучительного раздумья она решила сопровождать Императора: «[Ему] я могу быть нужнее, и слишком рискованно не знать, где и куда (мы представляли себе Москву)». Доктор Боткин поехал с ними. 26 апреля он вместе с Императором, Царицей, великой княжной Марией Николаевной и несколькими слугами отправился в Екатеринбург, вручив судьбу своих детей в руки Божии: «Я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался по требованию Бога принести Ему в жертву своего единственного сына. И я твердо верю, что так же, как Бог спас тогда Исаака, Он спасет теперь и моих детей и Сам будет им Отцом. <…> Но Иов больше терпел, и мой покойный Митя мне всегда о нем напоминал, когда боялся, что я, лишившись их, своих деток, могу не выдержать. Нет, видимо, я все могу выдержать, что Господу Богу угодно будет мне ниспослать».
Вместе с тем доктор, еще задолго до отъезда, сделал для своих детей все, что от него зависело: он написал письмо поручику Константину Мельнику, которого он лечил в Царскосельском госпитале, и попросил его приехать в город Тобольск для того чтобы спасти дочь и сына. А Татьяне он благословил выйти за Константина замуж. Мельник пересек всю Россию, от Украины до Сибири, пряча в кармане свои офицерские погоны, чтобы сдержать данное доктору Боткину слово. Поздней весной 1918 года он добрался до Тобольска, через некоторое время состоялась его свадьба с Татьяной. В семье Мельник-Боткиных долгое время хранились письма Евгения Сергеевича, которые он писал Константину еще до своего ареста, на протяжении трех лет. Внучка Татьяны Боткиной, Катерина Мельник-Дюамель, рассказывала впоследствии об их содержании: «Никогда в жизни мне не доводилось слышать таких трогательных и таких возвышенных писем. В них, наряду с простыми жизненными принципами, были размышления о грехе, о Божественном сострадании, о том, как тяжело жить достойной жизнью, когда на тебя обращен Божий взгляд. В них было сосредоточено все учение о жизни, посвященной самоотверженности и храбрости». К сожалению, эти письма Татьяна сожгла, так как содержание их, по ее словам, было слишком личным. Катерина Мельник-Дюамель говорила: «Не проходит ни дня, чтобы я не сожалела о безвозвратной потере этих драгоценных страниц, наполненных размышлениями мудрого и бесконечно доброго человека, для которого любовь к людям была единственной миссией его жизни на земле, доверенной ему Богом».
Екатеринбург
30 апреля 1918 года арестанты прибыли в Екатеринбург, где были помещены в дом инженера Ипатьева, ставший их последним земным пристанищем. В Екатеринбурге большевики снова предложили слугам покинуть арестованных, но все отказались. Чекист И. Родзинский вспоминал: «Вообще, одно время после перевода в Екатеринбург была мысль отделить от них всех, в частности даже дочерям предлагали уехать. Но все отказались. Боткину предлагали. Он заявил, что хочет разделить участь семьи. И отказался».
Евгению Сергеевичу пришлось жить в таком же режиме, какой Облсовет установил для Царской семьи. В инструкции коменданту и охране говорилось: «Николай Романов и его семья являются советскими арестантами, поэтому в месте его содержания устанавливается соответствующий режим. Этому режиму подвергается сам б. царь и его семья и те лица, которые изъявят свое желание разделить с ним его положение». Однако эти тяготы не сломили духа Евгения Сергеевича. Он писал из Екатеринбурга 15 мая 1918 года: «Пока мы по-прежнему в нашем временном, как нам было сказано, помещении, о чем я нисколько не жалею, как потому что оно вполне хорошо… Правда, садик здесь очень мал, но пока погода не заставляла особенно об этом жалеть. Впрочем, должен оговориться, что это чисто личное мое мнение, т. к. при нашей общей покорности судьбе и людям, которым она нас вручила, мы даже не задаемся вопросом о том, „что день грядущий нам готовит“, ибо знаем, что „довлеет дневи злоба его“… и мечтаем только о том, чтобы эта самодовлеющая злоба дня не была бы действительно зла.
А новых людей нам уж немало пришлось перевидать здесь: и коменданты меняются, точнее, подмениваются часто, и комиссия какая-то заходила осматривать наше помещение, и о деньгах приходили нас допрашивать, с предложением избыток (которого, кстати сказать, у меня, как водится, и не оказалось) передать на хранение и т. п. Словом, хлопот мы причиняем им массу, но, право же, мы никому не навязывались и никуда не напрашивались. Хотел было прибавить, что и ни о чем не просим, но вспомнил, что это было бы неверно, т. к. мы постоянно принуждены беспокоить наших бедных комендантов и о чем-нибудь просить: то денатурированный спирт вышел, и не на чем согревать пищу или варить рис для вегетарианцев, то кипяток просим, то водопровод закупорился, то белье нужно отдать в стирку, то газеты получить и т. д. и т. п. Просто совестно, но иначе ведь невозможно, и вот почему особенно дорога и утешительна всякая добрая улыбка. Вот и сейчас ходил просить разрешения погулять немного и утром: хотя и свежевато, но солнце светит приветливо, и в первый раз сделана попытка погулять утром… И она была так же приветливо разрешена».
В действительности обязанность, которую взял на себя доктор во время заключения — общаться с представителями новой власти, передавать им просьбы от арестованных, — была весьма неприятной. Как правило, прошения, с которыми он обращался к надзирателям, не исполнялись. Вскоре по прибытии в Екатеринбург доктор написал в Областной Исполнительный Комитет письмо с «усерднейшим ходатайством допустить господ Жильяра и Гиббса к продолжению их самоотверженной службы при Алексее Николаевиче Романове, ввиду того, что мальчик как раз сейчас находится в одном из острейших приступов своих страданий». На это прошение комендант Авдеев наложил такую резолюцию: «Просмотрев настоящую просьбу доктора Боткина, считаю, что и из этих слуг один является лишним, т. к. дети все являются взрослыми и могут следить за больным, потому предлагаю Председателю Области немедля поставить на вид этим зарвавшимся господам ихнее положение». Узникам пришлось смириться с таким ответом.
Евгений Сергеевич в одном из писем к брату писал о том, каких внутренних трудов стоило ему кротко переносить грубость тюремщиков: «Душа испытала столько ударов, что порой она прекращает реагировать. Ничего более нас не удивляет, ничего не может нас больше огорчить. Мы имеем вид побитых собак, подчиненных, послушных, готовых на все. Скажут, это апатия, форма неврастении, которая нас довела до такого состояния упадка, созерцательного безразличия. Безразличие!.. Понимаешь ли ты, чего мне стоит это видимое безразличие? Какая тренировка, какое усилие терпения, хладнокровия, власти над собой, твердости и смирения, которое должно здесь проявлять, присоединяя к этому наше всепрощение».
В сохранившейся «Книге записи дежурств членов Отряда особого назначения по охране Николая II» содержатся сведения, подтверждающие постоянную заботу Евгения Сергеевича о Царской семье. Так, в записи от 31мая 1918 года сообщается о просьбе «гражданина Боткина от имени семейства бывшего царя Николая Романова о разрешении им еженедельно приглашать священника для службы обедни». 15 июня записано: «Боткин просил разрешение писать письмо председателю облсовета по нескольким вопросам, а именно: продлить время прогулки до 2-х часов, открыть створки у окон, вынуть зимние рамы и открыть ход из кухни к ванной, где стоит пост № 2. Написать было разрешено и письмо передано в облсовет». Об этом же рассказывал сотрудник Уральской областной Чрезвычайной комиссии Г. П. Никулин: «Боткин, значит… всегда за них ходатайствовал. Просил за них что-нибудь сделать: священника позвать, на прогулку вывести или, там, часики починить, или еще что-нибудь, какие-нибудь мелочи».
Он же рассказывает, как однажды проверил одно из писем доктора Боткина: «[Доктор] пишет примерно так: „Вот, дорогой мой /забыл, там, как его звали — Серж; или не Серж, — неважно как/, вот я нахожусь там-то. Причем, я должен тебе сообщить, что когда царь-государь был в славе — я был с ним. И теперь, когда он в несчастье, я тоже считаю своим долгом находиться при нем! Живем мы так и так /он «так» — это завуалированно пишет/. Причем, я на подробностях не останавливаюсь, потому что не хочу утруждать людей, на обязанностях которых лежит чтение [и] проверка наших писем“. <…> Больше он не писал. Письмо, конечно, никуда не отправлялось». Этот насмешливый пересказ письма Евгения Сергеевича только резче подчеркивает благородство доктора и его верность Царской семье.
Необыкновенную преданность Евгения Сергеевича царственным узникам отмечал даже комендант Я.М. Юровский: «Доктор Боткин, — писал он, — был верный друг Семьи. Во всех случаях по тем или иным нуждам семьи он выступал ходатаем. Он был душой и телом предан Семье и переживал вместе с семьей Романовых тяжесть их жизни». О своем отношении к узникам и к их просьбам комендант рассказывал так: «Утренней проверкой, которую я установил, как обязательную, Александра Феодоровна была очень недовольна, т. к. она обычно в это время находилась еще в постели. Ходатаем по всяким вопросам выступал доктор Боткин. Так и в данном случае, он явился и просил — нельзя ли утреннюю проверку приурочить к ее вставанию. Я, разумеется, предложил передать ей, что или ей придется мириться с установленным временем независимо от того, что она в постели, или нет, или вовремя вставать. И, кроме того, сказать ей, что они как арестанты могут быть проверяемы в любое время дня и ночи.
Особое неудовольствие вызвало со стороны Александры Феодоровны, когда в одно из окон, выходившее на Вознесенский проспект, вставили железную решетку (в другие окна решетки не успели приготовить или вставить, точно не помню, но было это уже при мне) и по этому поводу ко мне приходил доктор Боткин».
Самоотверженно заботясь о других, Евгений Сергеевич сам в это время тяжело страдал: у него были такие сильные почечные колики, что великая княжна Татьяна делала ему инъекции морфия, чтобы несколько облегчить боли.
Из дневника императора также можно узнать некоторые подробности о жизни Евгения Сергеевича в заключении. Узники старались скрасить угнетающую обстановку взаимным общением, чтением, посильным трудом и молитвой. Так, в Великий Четверток 2 мая 1918 года император писал в своем дневнике: «При звуке колоколов грустно становилось при мысли, что теперь Страстная, и мы лишены возможности быть на этих чудных службах и, кроме того, даже не можем поститься. <…> Вечером все мы, жильцы четырех комнат, собрались в зале, где Боткин и я прочли по очереди двенадцать Евангелий, после чего легли».
От имени членов Августейшей семьи доктор Боткин обращался к коменданту Авдееву с просьбой о том, чтобы во все праздничные и воскресные дни в доме Ипатьева совершались богослужения, однако за все время были получены разрешения лишь на пять служб. Вечером в Великую субботу, 4 мая 1918, отслужили светлую заутреню. Николай II отмечал в дневнике: «По просьбе Боткина к нам впустили священника и дьякона в 8 часов. Они отслужили заутреню скоро и хорошо; большое было утешение помолиться хоть в такой обстановке и услышать „Христос воскресе“». 19 мая было разрешено отслужить молебен в честь 50-летия Государя, в последующие дни — две обедницы и, наконец, литургию в праздник Пресвятой Троицы.
Протоиерей Иоанн Сторожев, которого приглашали для проведения богослужений, вспоминал и о присутствии на службах доктора Боткина: «Старшие дочери стояли в арке, а отступая от них, уже за аркою, в зале стояли: высокий пожилой господин и какая-то дама (мне потом объяснили, что это были доктор Боткин и состоящая при Александре Феодоровне девушка). <…> Затем подошли ко кресту доктор Боткин и названные служащие».
Последние дни
Все испытания Евгений Сергеевич переносил с твердостью и мужеством, без какого-либо ропота или смятения. В письме к брату Александру, начатому за неделю до расстрела, он писал: «Дорогой мой, добрый друг Саша, делаю последнюю попытку писания настоящего письма, — по крайней мере, отсюда, — хотя эта оговорка, по-моему, совершенно излишняя: не думаю, чтобы мне суждено было когда-нибудь откуда-нибудь еще писать, — мое добровольное заточение здесь настолько же временем не ограничено, насколько ограничено мое земное существование. В сущности, я умер, — умер для своих детей, для друзей, для дела… Я умер, но еще не похоронен, или заживо погребен, — как хочешь: последствия почти тождественны. <…> …У детей моих может быть еще надежда, что мы с ними еще свидимся когда-нибудь и в этой жизни… но я лично этой надеждой себя не балую, иллюзиями не убаюкиваюсь и неприкрашенной действительности смотрю прямо в глаза. <…> Ты видишь, дорогой мой, что я духом бодр, несмотря на испытанные страдания, которые я тебе только что описал, и бодр настолько, что приготовился выносить их в течение целых долгих лет». Как видно из этого письма, доктор Боткин, видя мучительную неопределенность положения узников, был готов и к смерти, и к тяготам длительного заключения, укрепляя и поддерживая себя верой в Бога. Свои душевные силы Евгений Сергеевич укреплял словами Господа о том, что спасение души стяжевается только терпением: «Меня поддерживает убеждение, что “претерпевший до конца, тот спасется”, и сознание, что я остаюсь верным принципам выпуска 1889-го года» — то есть идеалам самоотверженного служения людям и Отечеству.
Развязка была уже близка. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года доктор Боткин, вместе с Царской семьей, мученически погиб в подвале дома Ипатьева. Кончина его не была мгновенной: после долгой пальбы в подвале комендант Юровский увидел, что Евгений Сергеевич полулежит, опершись на руку, — он был еще жив. Юровский выстрелил в него, и этот выстрел оборвал земную жизнь доктора Боткина, открыв для него врата в жизнь иную.
…Умереть за Царя и Отечество. Что это означает? В православной России это означало умереть за Христа: «У русского, по свойству восточного православного исповедания, мысль о верности Богу и Царю соединена воедино, — писал святитель Игнатий (Брянчанинов). — Русские, не только воины, но и архиереи, и бояре, и князья, приняли добровольно насильственную смерть для сохранения верности Царю». Такую смерть Христос принимает как мученичество за Него Самого: приносящие «жизнь свою в жертву Отечеству, приносят ее в жертву Богу и сопричисляются к святому сонму мучеников Христовых». Так и доктор Боткин — мученик Евгений — вступил в этот светлый сонм, через непоколебимую верность Царю и Отечеству стяжав мученический венец.

[1] Мыза – отдельно стоящее имение, хутор. Находилась в 12 верстах от станции Мустамяки, в деревне Кирстиняля, включавшей в себя более мелкое местечко Кунттила (С. П. Боткин называл его Култилла, поэтому здесь используется его наименование). Ныне местечко Кунттила – это поселок Тарасово Выборгского района Ленинградской области.
[2] Станция Китайской-Чанчуньской железной дороги, в районе которой 1–2 июня 1904 года произошел бой. Обнаружив встречное движение второй японской армии генерала Оку, русские войска перешли к обороне, а затем после двухдневного боя с превосходящими силами противника отошли.
[3] Около города Ляоян в северо-восточном Китае, где русская Маньчжурская армия потерпела поражение от трех японских армий и отошла за реку Шахэ.
[4] Река в Северо-восточном Китае, в бассейне реки Ляохэ. На Шахэ произошло сражение между русской Маньчжурской армией (под командованием генерала А. Н. Куропаткина) и тремя японскими армиями (под командованием маршала И. Ояма), в котором ни одна из сторон не смогла добиться победы.