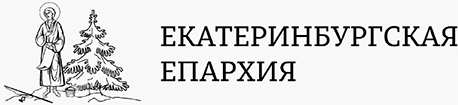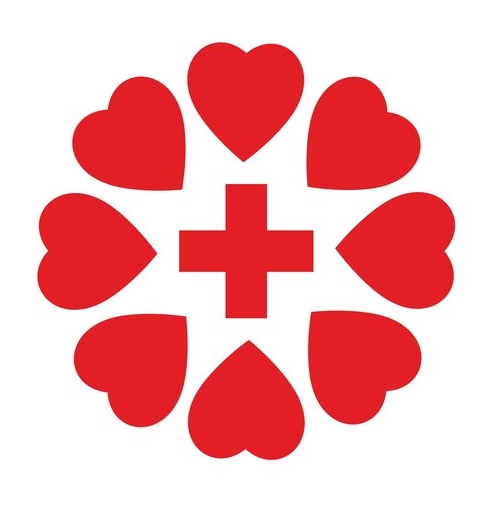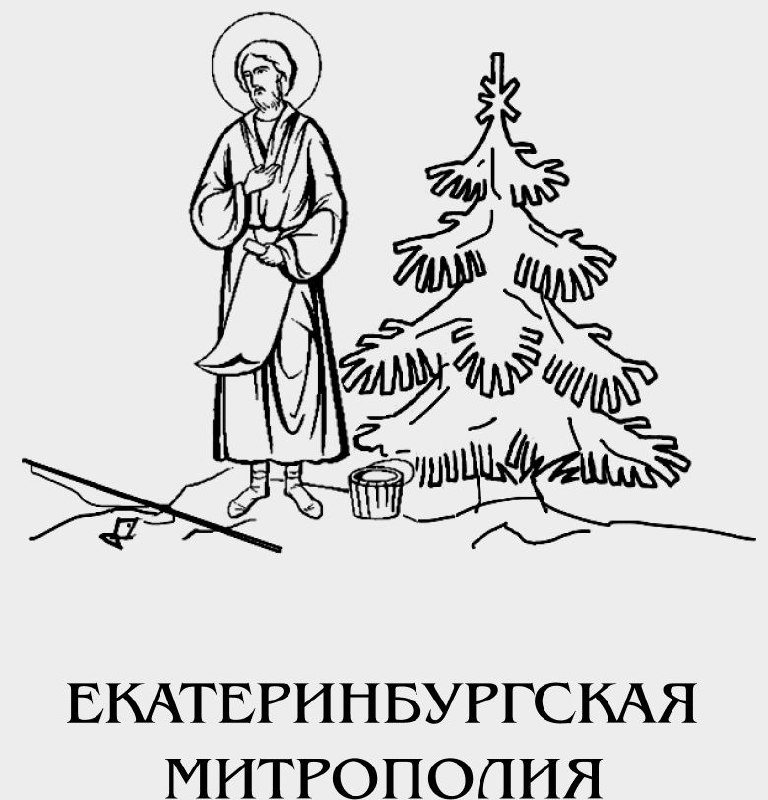С матушкой Марией прихожанки Нижнетагильского Скорбященского женского монастыря Валентина Александровна Макарова (слева) и Галина Федоровна Малышева (справа). Праздник жен-мироносиц 2016 год.
Представляем читателям новую публикации из цикла «Хранители веры. Средний Урал».
Ее героиня – прихожанка Нижнетагильского Скорбященского женского монастыря Валентина Александровна Макарова. Рассказ о ней подготовила участник Клуба приходских пресс-секретарей Вера Александровна Чемезова, заведующая архивным отделом монастыря.
«Белые платочки не умрут никогда!»
Валентина Александровна Макарова родилась 7 июня 1932 года и отошла ко Господу 21 ноября 2021 года. Она помнила самое начало восстановления Скорбященского и Вознесенского храмов Нижнетагильской обители…
В советское время шутили: «В джазе только девушки, а в храме – только бабушки». Общим местом стало, что Русскую Православную Церковь в XX веке спасли не только новомученики и исповедники веры, но и старушки в белых платочках, которые, несмотря ни на какие обстоятельства, заполняли по праздникам и воскресным дням немногочисленные в СССР храмы Божии. Как-то одного владыку спросили: «А что будет с Церковью, когда умрут все белые платочки?». Он немного подумал и уверенно ответил: «Белые платочки не умрут никогда!».
В каждом храме есть несколько таких верных прихожанок, которых неизменно увидишь за всяким праздничным всенощным бдением и Божественной литургией, которые, не пропуская ни одной субботы, молятся за умерших сродников на панихиде. И в будние дни, когда есть служба, они почти всегда в церкви, и никогда не опаздывают они к началу богослужения, и не уходят до отпуста. Их отсутствие в храме можно объяснить только одной причиной – тяжелая болезнь. По их скромной, малозаметной, но подвижнической жизни можно описывать историю прихода.
Среди таких бабушек и прихожанка Скорбященского женского монастыря Валентина Александровна Макарова. Когда готовился материал – бабе Вале исполнилось 85 лет. Ее можно считать старожилом нашего святого места: она молилась в монастырских Скорбященском и Вознесенском храмах чуть ли не с момента их передачи верующим, примерно с 1994 года, и помнит их еще такими…
Беседа с человеком преклонного возраста, родившимся в первые два десятилетия советской власти, пережившим голод и неустроенность быта 1930-х годов в раннем детстве, Великую Отечественную войну в подростковом возрасте, помнившим многих правителей нашего государства, и при этом сохранившим ясность мировосприятия, – это всегда событие. В процессе общения выяснилось, что Валентина Александровна стояла у истоков новой церковной истории Нижнего Тагила – с конца 1980-х годов.
Баба Валя рассказала: «Сначала я ходила молиться в Александро-Невскую церковь на Гальянке, потом в Казанский храм, в приход во имя Святителя Николая Чудотворца, что в центре города, а потом, когда открыли Скорбященскую церковь, стала в нее ходить. В приходе сначала немного народу молилось, все в основном старушки – все они уже у Бога. Теперь в храме молодых людей и деток много – сердце радуется, а тогда, в 1990-е годы, все было по-другому. Службы тогда шли на втором этаже. Все рушилось: то стены, то потолок обсыпется. Латали дыры постоянно. Поначалу ужасно было в храме: грязь и мусор. Много надо было трудов положить, чтобы привести храм в нормальный вид, а денег, как водится, мало. Вот бабушки-пенсионерки и приходили, по силам помогали. И священника в церкви не было, служили разные батюшки, кого пришлют. Когда открылся монастырь, матушка Кирилла меня на клирос поставила. А летом все разъедутся кто куда – в отпуск или на дачу, мы с матушкой только вдвоем и поем».
Всегда интересно узнать у таких людей, как баба Валя, как они к вере в Бога пришли, что пережили.
Валентина Александровна поведала такую историю: «Родилась я в Нижнем Тагиле, нас было 7 человек детей, мама Анна Семеновна не работала, была с детьми, папа Александр Евгеньевич работал машинистом на паровозе. Я была предпоследняя у родителей, после меня еще девочка родилась. Сначала мы жили нормально – скотину держали, а потом голод пришел – перед самой войной. Жили мы в районе улиц Кулигина – Садовой, а до этого по улице Бондина, дом был свой небольшой: комната одна большая, родительская спальня, кухня и прихожая. Дети спали на полу на двух матрасах, укрывались одеялами (простыней и не было – они появились, когда война закончилась, и то американские), а родители спали на кровати. Отец мой был из Краснополья, приехал в Тагил, выучился на машиниста. Ему в голодные годы давали по карточке 800 граммов хлеба, а нам по 300 граммов, потом стали по 200 граммов давать. Карточки появились во время войны. Хозяйства у нас уже не было. Но мы еще хорошо жили, а ведь многие от голоду умирали, опухали от голода.
Папа уедет в командировку, а мы все у мамы клянчим поесть, а дать-то ей нечего. Хлеба дает понемногу, чтобы мы не сразу все съедали, а больше ничего и не было. Или, бывало, сидим с сестрой на печке, ревем. Отец придет, спрашивает: «Что плачете?» Мы ему: «Очень кушать хочется». Мама ему на смену оставила кусочек хлеба и две картошки. Отец и говорит: «Раздели девчонкам мой хлеб, а я как-нибудь обойдусь». Вспоминать это страшно, ведь отцу еще сутки работать было надо. Потом стали хлеб свободно продавать, но очередь надо было занимать очень рано, еще засветло, и хлеб не всем доставался. Постепенно жизнь после войны стала выправляться. Но валенки у нас с сестрой были одни на двоих. Она по наказу отца сразу после школы неслась домой, скинет их, а я прыгаю в них и на улицу, чтобы на первый урок во второй смене не опоздать.
Самый старший ребенок родителей был с 1919 года, мой брат добровольно ушел в армию, работал слесарем на поездах, после войны еще с Бандерой боролся. Весь израненный пришел: и в голову, и в плечо, но все-таки выжил. Он женился на дочери священника и остался на Украине. Жена была его на 14 лет старше, можно сказать, что он женился на ней из благодарности, что она его от расстрела спасла. Его хотели расстрелять, что он при немцах был. У него потом девочка – моя племянница – родилась.
Второй мальчик моих родителей – мой брат – был с 1922 года, он тоже служил в армии, когда война началась. Третий брат был во внутренних войсках. От Москвы до Румынии они тянули кабель. По болотам шли, по всяким непроходимым местам. Все ноги простудил, заболел ревматизмом и очень страдал. Но на войне, слава Богу, никто из моих братьев не погиб.
Когда война кончилась, все плакали и от горя, и от радости, а в нашей семье никто не погиб. Маме соседки говорят: «Ты какому Богу-то молилась, что у тебя все вернулись?» И в комнате, и в кухоньке у нас иконы были Спасителя, Божьей Матери и Николая Чудотворца, а других святых не помню. По ночам она молилась – это я точно знаю. И, действительно, днем-то мама все с нами занималась (на семерых надо приготовить, постирать, еще нужно уроки проверить), молиться ей было некогда, а по ночам-то она молилась на коленях – я это помню. «Мама, ты почему не спишь?» – я ее спрашиваю среди ночи, а она меня укладывает в постель, чтобы я никого не разбудила, и снова на молитву встает. В Тагиле тогда только одна Казанская церковь была, она могла ходить в храм очень редко, и меня с собой иногда возьмет. Я все-все помню.
Я чаще стала с мамой в храм ходить после одного случая. После того, как меня ребята напугали, мама меня одну дома не оставляла. Парни тулуп мехом вверх одели, шапку тоже меховую и из комнаты в этом одеянии выползли – я сильно напугалась и громко кричала. Они сами за меня напугались и просят: «Только папе с мамой не говори». Папа был старой закалки, он ребят за провинности крепко наказывал. Все говорил: «Распусти-ка их – одно зло». Девочек он никогда пальцем не трогал, только ругал, и то любя.
В школе классы были большие до 40 человек – детей было много: у кого в семьях 7, у кого 9 детей. На нас, девчонок, мама всегда кресты надевала. Снимали их только когда надо на уколы в медкабинет идти или на физкультуру, а то ребята засмеют и пр. Учителя внушали родителям, что детям кресты не нужны, но их мало кто слушал. Потом старшие стали галстуки пионерские носить; когда я подросла, тоже стала пионеркой, но крест я не снимала. В комсомол я уже не вступала.
Когда война закончилась, всю ночь кричали – праздновали. Во время войны на заводе мы не работали, но летом нас отправляли на картошку – мы работали на полях. На детей после войны мануфактуру давали, т. е. ткань, но очень мало. Мама на маленьких платьишко сошьет, а больше и не было.
На Рождество и Пасху в Казанский храм ходила только мама. Для нас приготовит куличи, яйца. Это я запомнила очень хорошо. А Новый год мы не праздновали. Елку нам, конечно, ставили, но я не помню, чтобы мы его отмечали. На елку повесят яблоки, орехи в золотинках, но я не помню, чтобы мы их ели. Как таинство какое-то!
Вера в Бога у меня с мамой связана. Потом я сама не от веры, конечно, но от храма отошла – работа (оператором на железной дороге проработала 37 лет), семья, маленькие дети, потом внуки, всяческие хлопоты.
Уже точно и не помню, лет в 35–40 мы с мужем решили повенчаться. Но Николай был коммунист. Я ему говорю: «Давай мы потихонечку повенчаемся, никто и не узнает». Поехали в село Николо-Павловское, договорились со священником, но все равно на работе мужа (а он работал на станции Смычка диспетчером, а по ночам еще и начальником) как-то узнали, вызвали его на партийное собрание, совестили, ругали, грозились из партии исключить. А он уж и сам решил из партии выйти. Написал заявление, хотя понимал, что могут и с работы выгнать – куда тогда пойдешь. «Иди, – говорю, – а я за тебя молиться буду», – сказала я Николаю. Отправился он к парторгу с заявлением о выходе из партии, а я встала на колени, стала молиться Святителю Николаю Чудотворцу. К нашему обоюдному удивлению, обошлось без последствий. Парторг без лишних слов очень даже спокойно подписал бумагу мужа, и его даже с работы не уволили, так до пенсии и доработал. Господь ему еще болезнь послал долгую – 10 лет был прикован к постели. После инсульта долгое время дома лежал, исповедовать и причащать его приходил батюшка, а когда он стал подниматься, я стала с ним до храма потихоньку доходить. На службе Николай посидит, помолится, мы с ним обратно бредем. Все к Богу ближе».
В день разговора бабушка Валя снова была в храме, чтобы заказать сорокоуст. Отошла ко Господу ее последняя сестра. Никого, кроме нее, от родительской семьи в живых не осталось. Она говорила об этом спокойно, как о неизбежном. Непросто спрашивать: «А за Вас будет кому помолиться?» Но сама Валентина Александровна в конце нашей беседы поблагодарила Господа, что младший сын Сергей и его семья к православной вере потянулись, и внучки ее тоже с храмом не порывают. Болит только сердце о старшем сыне… Надо еще пожить, помолиться за него…
На фото: 18 июня 2017 года за Божественной литургией в Скорбященском храме отец Евгений и матушка Мария поздравляли наших прихожанок, недавно отметивших 85-летие: Валентину Александровну Макарову и Марию Ивановну Юкланову.
Читайте также по теме:
«Хранители веры. Средний Урал»: «Моя бабушка зашила мне крестик в шов школьной формы»
«Хранители веры. Средний Урал»: «Булочки с … молитвой»
«Хранители веры. Средний Урал»: «Я шла, шла …и пришла к храму»
«Хранители веры. Средний Урал»: «Я благодарна Богу за то, что привел к большой вере»
«Хранители веры. Средний Урал»: «Много званных, но мало избранных»
«Хранители веры. Средний Урал»: «В каждой семье молитвенник, который молится за свой род»
«Хранители веры. Средний Урал»: «Много званных, но мало избранных»
«Хранители веры. Средний Урал»: «Я всегда чувствовала помощь Божию»
«Хранители веры. Средний Урал»: «От комсомолки до молитвенницы»
«Хранители веры. Средний Урал»: история о силе духа, вере и любви