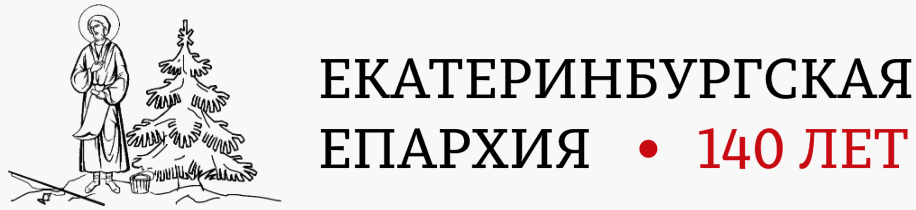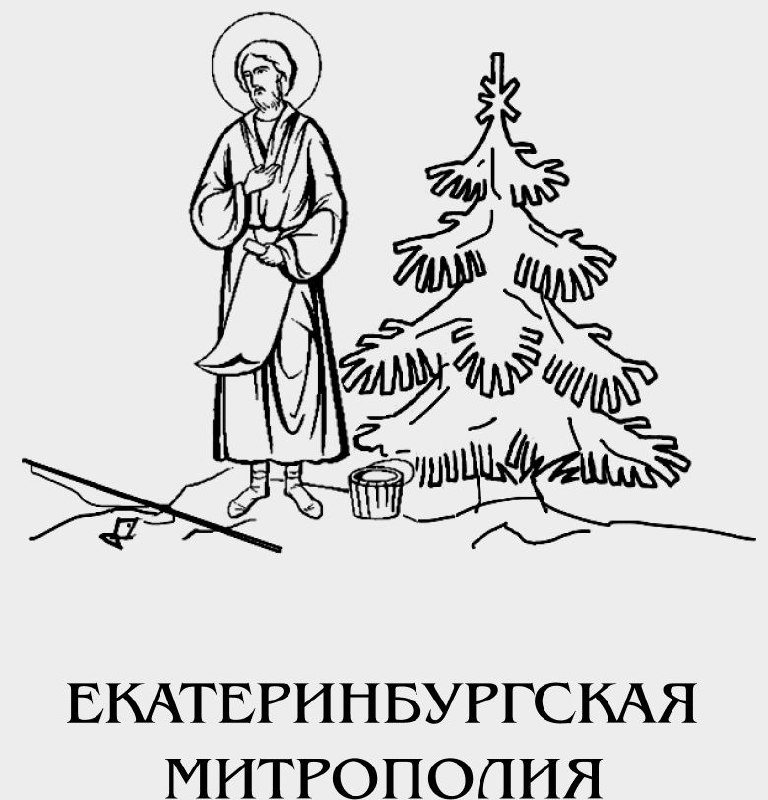Представляем читателям новую публикации из цикла «Хранители веры. Средний Урал».
У этого повествования – две героини. Законоучитель воскресной школы и прихожанка храма святого преподобного Серафима Саровского, участница Клуба Приходских пресс-секретарей Ирина Анатольевна Зеленцова рассказывает о своей бабушке – Ефросинии Матвеевне Брызгаловой, и о своем пути к вере.
«Бог – с заглавной буквы, мама, мир, семья, папа…»
Многие рассказывают о своих родных – бабушках и дедушках. И, действительно, в период СССР именно наши бабушки и дедушки могли рассказать о Боге, вере, Церкви. Они сохранили и пронесли традиции Православия и свою веру через всю жизнь. То драгоценное, что было доверено им предками. Родители – люди другого поколения, проживающие при других обстоятельствах, другой власти. И хочешь или нет – это накладывало свой отпечаток.
Хочу поделиться своими яркими, детскими воспоминаниями о моей бабуле, Ефросинии Матвеевне Брызгаловой, 1904 года рождения, которая в детстве рассказала мне о Боге, научила молиться, сама того не ведая, своими рассказами, сказами, иногда порицаниями оказала значительное влияние на формирование меня, как личности, на выбор моей будущей профессии. Я не брошенная родителями. Просто они работали с утра до вечера, а я была дома, «водилась» с бабушкой. Точнее – бабушка водилась со мной, помогая родителям, пока они на работе.
Жили мы в своем, частном доме с огородом, грядками, яблонями, ягодными кустами и зарослями малины, большой застекленной верандой, где летом отдыхали и пили чай. Размеренный, деревенский уклад русской, советской семьи в частном секторе крупного города. Икон в доме не было. Семью бабушки при зарождении советской власти раскулачили. Забрали все: старинные церковные книги, иконы семейные в окладах. Вещи. Семья труда не боялась. Работали. Без дела не сидели. Купили все необходимое. Но икон и книг в советский период было не достать.
Вряд ли бабушка Ефросиния помнила о цитате святителя Василия Великого «вера следует за знанием», но, действуя интуитивно, знакомила меня с великим смыслом и значением слова «Бог» через рассказы из Евангелия. Со мной, маленькой внучкой, она беседовала, как со взрослым человеком, разбирала известные притчи, житейские ситуации. Обучила меня чтению и письму, счету. С ней я узнала про «Азъ Буки Веди. Глаголъ добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои…»… Со страхом Божиим написала первые слова: Бог — с заглавной буквы, мама, мир, семья, папа…
У бабушки было дореволюционное воспитание, и образование церковно-приходской школы. Подготовка была крепкая. Мама позднее вспоминала, что бабушка с легкостью решала ее школьные задачи за восьмой класс. А какой красивый был у нее почерк! Такой только в музее сейчас увидеть можно.
Я, как педагог, понимаю, что, видимо, были какие-то методики обучения письму. Сейчас так не пишут. Кроме того, у Ефросинии Матвеевны была уверенная жизненная позиция с четкими границами черного и белого, «нельзя – можно», понятиями правды, совести, чести, поведения в семье и ведения домашнего хозяйства. Сама вырастившая четверых детей, давшая им образование, она четко знала – как должны воспитываться и какие должны быть девочки и мальчики. Поскольку у моих родителей была только одна я, то весь педагогический дореволюционный бабушкин практикум сфокусировался на мне.
– Ирина, ведь ты же деееевооочкаааа, – говорила она, растягивая слова и меняя интонацию в зависимости от ситуации.
Я всегда ходила чистенькая и аккуратненькая, с бантами, в белых гольфах или колготах, нарядных платьях. Это не значит, что я ничего не пачкала и не рвала. Я, как все девчонки и мальчишки, бегала и скакала по кочкам, расшибала коленки, лазила через забор. Дома вновь звучала та волшебная фраза, которая заставляла меня все переосмысливать. Меня мазали йодом, на шишки накладывали примочки, платья стирали, туфли чистили, носочки подшивали, завязывали бант, и я вновь, аккуратная, выходила во двор.
День рождения у нас с бабушкой в один день. Так бывает иногда в роду у родственников. Но отмечала она свой день рождения всегда позднее, в день Петра и Февронии. Позднее я узнала, что ее крестили в этот праздник, и святая дева Феврония (Ефросинья) – ее покровительница. Именно с бабушкой я выучила свои первые молитвы «Отче наш» и «Богородице, Дево, радуйся». А молитва «Царю Небесный» – была ее любимой.
Помню рассказ о паломничестве ее в Верхотурье для молитвы за семью. Она была ребенком. Из их деревни одна соседская семья пошла на Богомолье в Верхотурье. И мать с отцом отпустили старшую Фросю с ними. Есть русский обычай – старшего ребенка отдавали Богу в молитву. Чаще это были сыновья, которые впоследствии становились либо священниками, либо монахами и вымаливали свой род. А здесь — девочка старшая.
– Она и пойдет молиться за род и семью в паломничество, – так решил тятя (отец).
Шли пешком до Верхотурья, останавливаясь на ночлег в чужих деревенских хатах. В одном из таких домов жила бездетная семья. Вот им девочка Фрося и приглянулась. И стали они просить попутчиков оставить им эту пригожую и смышленую девочку Фросю. Попутчики и говорят: «Что вы, что вы! Нас Матвей Гаврилович со света белого сживет, если дочку его обратно не воротим. И вам житья не будет – нраву-то он крутого!». Так и отстали от Фроси. И молилась там девочка Фрося за своих родных, и красОты природные рассматривала.
Теперь я, приезжая в Верхотурье, с особой теплотой, неспешно хожу по дорожкам монастыря, сижу на склоне горы, у реки. И правда, простор и красота! Какие мысли были тогда у бабушки? О чем мечтала в детстве? Река сейчас обмелела, но сохранила свои крутые берега. А в то время была полноводной, по ней суда ходили на Ирбитскую ярмарку.
Любимый святой у бабушки — преподобный Серафим Саровский. А почитаемая иконка в виде небольшого серебряного медальона, где с одной стороны – святой Серафим, молящийся на камне; с другой — Богородица «Умиление». Все, что осталось у бабушки от ее матушки и отца. За молодого человека по имени Серафим молодую Ефросинию и сосватали…
Помню, как с бабушкой мы красили яйца на Пасху. С ней я готовила свою первую выпечку – необыкновенный, завивающийся, кудрявый хворост, вкус и запах которого не забуду никогда. На нашей уютной кухне в доме царил кулинарный дух, где было многое: улавливался запах свежего теста, кипящего масла в кастрюльке, необыкновенно доброй суматохи и суеты, чтобы хворост не подгорел. Мы были веселы в радости происходящего. Вместе с тем, это была атмосфера любви, заботы, добрая улыбка бабули, сияющие каким-то внутренним светом голубые глаза, ее умелые руки в муке, которые она иногда вытирала о передник.
А наши пасхальные крашенки были лучшими во всем переулке: отборными, красивыми, насыщенными в цвете и крупными. Ведь у Христа и для Христа – все должно быть самое лучшее! Красила бабушка их также, как это делали ее предки – в луковой шелухе. Вспоминаются пасхальные забавы того времени – катание яиц, менялки. А доброе Христосование с людьми! Бабушка вручила мне несколько пасхальных яиц – иди, поздравь людей со словами «Христос Воскрес», расскажи о Христе! Вышла я на улицу – никого нет. Кому же сказать, что Христос Воскрес? И как непривычно это делать, — смущаюсь я. Стою, жду у ворот – кто пройдет. Идут соседи из магазина – я им кричу: «Христос Воскрес»! И протягиваю наше крупное, крашеное яйцо. Помню некое замешательство, смятение: было не принято в СССР отмечать Пасху. Но предложенное мной яйцо взяли, сказав коротко: «Обожди». Опять жду. Посмотрела: соседка возвращается со своим пасхальным яичком и конфетами. Отдавая его, говорит: «Воистину воскресе! Спасибо тебе, Ирина». Далее, дело пошло легко и просто. Трудно только первый раз возвещать о Христе. Это я поняла еще тогда, в детстве. Прибежав на кухню, взяла еще крашенок и побежала по соседям с радостной вестью – Христос Воскрес!
Рассказала я о Христе и в школе, после выходных. Там оптимизма не разделили. Моя первая учительница, оказывается, была членом КПСС. Конечно же, она тоже услышала о Христе. Ей донесли на меня подружки-одноклассницы. Были вызваны родители в школу, назначена проверка. Родителям сказали, что меня неправильно воспитывают, не по-советски. Я не знаю, что и как отвечали родители, и как не уволили с работы мою маму – воспитательницу в детском саду, но мне было дома сказано: «Ирина, лучше на такую тему больше в школе не говорить. И вообще, нигде не говорить. Носить в сердце».
Так мне в школе впервые преподали уроки лицемерия, предательства и несправедливости. Конечно, я расстроилась. Но урок усвоила. А что же дома? Дома — без Бога — не до порога. Любое дело начиналось со Христом. Заканчивая трудный день, мама и бабушка, укладывая меня спать целовали и тихонечко говорили: «День прошел, Слава Богу! Спи со Христом, Ирина». Так я и иду с тех пор по жизни, со Христом.
Бабушка ушла ко Господу, когда мне было 11 лет. Я стала самостоятельной. Родители по-прежнему, много работали. А я училась в языковой и музыкальной школах. Занималась рисованием, много читала.
Крестилась в 20 лет, в Саранске. В храме св. Иоанна Богослова в юбилейный год – тысячелетия Крещения Руси. Интересно вот что: в день моего Крещения маме приснилась бабушка Ефросиния, она радостно забежала к нам в дом со словами: «Такая радость! Такая радость!». А в то лето, после Крещения, Господь привел меня в храм: я стала певчей. Сначала поступила в хор Елизаветинского храма, его тогда восстанавливали: в храме стояли строительные леса, где-то что-то подкрашивали, ремонтировали. Но службы шли. Прекрасно регентовала молодая женщина, матушка. Несмотря на ее молодость, была строгая дисциплина. Осенью ей предстояло стать мамой. Певчие – все в основном студенты нашей консерватории. С ее уходом в декрет — многие ушли из этого хора. Так я пришла в Иоанно-Предтеченский собор.
Архиерейский хор в Иоанно-Предтеченском храме – ответственное дело. Пришлось учиться, работать, служить Богу. Владыка Мелхиседек благословил на мое первое Послушание – певчей Архиерейского хора перед всеми прихожанами собора во время Чина Помазания. Для меня волнительно и ответственно. Шел 1988 год. Позднее, благословил на обучение в Духовную Семинарию.
Так я и возвещаю о Христе. С легкой руки бабушки Ефросинии образовалась преемственность поколений. Во многих русских семьях происходит передача той самой нужной и важной информации, за счет чего существует нравственный код нации. Мы приходим в мир и уходим, а нация со своим нравственным кодом, со своим стержнем остается существовать.
– Жизнь прожить – не поле перейти, – вспоминаю любимую бабушку, Ефросинью Матвеевну.
Главное – прожить ее с Богом, в традициях своей семьи и народа, по правде, с искренней, сердечной верой, которую она пронесла через всю жизнь и передала своим детям и внукам.
В трудные моменты, когда я не справляюсь с ситуацией, мысленно слышу слова, произносимые нараспев из прошлого: «Ирина, ведь ты же деееевооочкаааа»…
Молюсь… и вновь становлюсь такой, какой она хотела меня видеть: стойкой, принципиальной, аккуратной, честной, мягкой, требовательной или справедливой.

Ирина Зеленцова. Картина «Пасха. Первая проповедь», холст, масло. Размер 35 * 25 см.