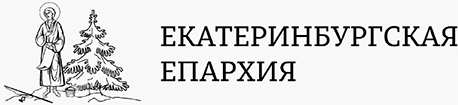Что нам готовит год столетия революции? Достойно ли отмечать эту дату фильмом «Матильда»? Продлится или закончился спор об Исаакии? Донкихотствует или ошибается Наталья Поклонская? Нужно ли Церкви судиться с художниками-провокаторами — на самые острые вопросы накануне Пасхи «РГ» отвечает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО Владимир Легойда.
НЕОСВОЕННЫЙ УРОК 17-ГО ГОДА
— 2017 год — год столетия революции. Такое ощущение, что Церковь сегодня — самый большой ее несимпатизант. Патриарх Кирилл, кажется, яснее всех высказывается о бедственных последствиях революции. Справляется ли наше общество с осмыслением ее уроков? Примиримся ли мы во взглядах на свою историю?
— Патриарх Кирилл не раз говорил о главном уроке событий 17 года и последующего за ним столетия — это нежизнеспособность общества без Бога. Общество, в котором открыто выступают против Бога — заканчивает крахом. Что-то похожее ждет даже общества, никогда открыто не декларировавшие богоборчество, но вытесняющие Бога из своей жизни…
Так что урок получен. Но не уверен, что усвоен. Бог есть любовь, поэтому нашу солидарность Он ставит выше, чем эгоизм. Дефицит любви не позволят усвоить урок до конца.
Чтобы его усвоить люди должны хорошо слышать друг друга, и то, что говорится. А мне кажется, что при всем обилии разговоров на эту тему, слышим мы друг друга плохо. Живем в обществе огромного количества не пересекающихся монологов. Полилога, полифонии нет. Их возникновению мешает устойчивый набор идеологических и политических штампов. Все услышанное наше ухо привычно раскладывает по схеме — свой-чужой… Удручает тотальный отказ противоположных сторон искать хоть что-то общее, что позволит нам почувствовать друг друга частью одного — одного народа, одной культуры… Когда заканчиваются драчливые теледебаты, не возникает ощущения, что вот сейчас свет погаснет, и те, кто сходился на кулачках, сядут и о чем-то договорятся.
А вошедшие в нашу жизнь (помимо газет и ТВ) социальные сети, только усиливают стремление не разобравшись раздавать негативные нравственные диагнозы всем, с кем мы не согласны. Государству, политическим противникам, социальным и национальным группам, даже соседям. Эти штампы-предубеждения исключают диалог и взаимодействие. Исключают полутона. В таких условиях трудно и осмыслять, и примиряться. И оценки прошлого еще продолжают нас разделять.
А почему бы не попробовать сделать так, чтобы разделения прошлого не оставались для нас маркером, тем более — не делались маяком? Мы должны это все и оставить в прошлом. Не примириться со злом, нет. Все надо называть своими именами, и не пытаться утверждать, что не было репрессий, невинно посаженных и расстрелянных, и что Бутовский полигон — не Бутовский полигон. Это все чудовищно, как и чудовищно то, что об этом мало знают.
Но нам, живущим сегодня, нужно примириться друг с другом — в нашем отношении даже не столько к прошлому, сколько к будущему. И без требования от других всенародных покаяний… С богословской точки зрения покаяние — это личностный акт, нельзя каяться в том, что ты не совершал… А жесткие дискуссии хороши для академической среды.
— Вы серьезно?
— Да. Потому что академические бои не выливаются на улицы, не раскалывают общество, из-за них не бьют витрины, не убивают и не калечат людей. Там жесткие правила, выше критичность мышления, обязательна доказательная база. Любую восклицательную подачу «новая историческая сенсация!», «нашли секретные документы!» ученые воспринимают даже не как интригующую публицистику, а как профанацию. Вот пусть они и бьются до победного конца.
А наша задача иная: ни в коем случае не передать в наследство сегодняшней молодежи — так не похожему на нас «поколению дизайна» — эту нашу войну по поводу собственной истории. Поэтому в обычных разговорах о революции важно сохранять то, о чем говорил Патриарх — нравственные ориентиры. Зло не называть добром. Не сохранять в исторической памяти имена злодеев как имена героев (поэтому Церковь и выступает за переименование улиц).
Но Церковь всегда, в отличие от любой общественной и политической силы, руководствуется пастырским подходом. А он устремлен к максимальному сохранению мира — душевного, общественного, социального. Это хорошо, кстати, было видно на примере недавно опять разгоревшейся дискуссии о выносе тела Ленина из Мавзолея. Кто-то сгоряча даже заявлял: если ты не готов требовать немедленного захоронения Ленина, ты не православный! Но зачем же фактически догматизировать и сакрализировать эту тему?
ДОН КИХОТ НАД БЮСТОМ ИМПЕРАТОРА
— К вопросу о сакрализации. Похоже, сакральное содержание с трудом воспринимается современным, хоть и постатеистическим обществом. Гиканье, которое сопровождало новость от Натальи Поклонской, о том, что в Крыму замироточил бюст государя Николая II, тому пример. Не надо торопиться делать большой новостью таинственное и чудесное?
— Никакого особого религиозного содержания в истории с царским бюстом нет. По сути ситуации были оперативно сделаны комментарии — епархией, другими представителями Церкви. Все заискрило, потому что Поклонская — известный человек. Кто-то увидел в этом этакий постмодерн: то она говорит о мироточении, то вдруг играет «Мурку». Она что, настолько расчетлива или слишком наивна?
А вдруг эта наивность, — проведу рискованную параллель — донкихотство, хотя бы отчасти? Герой Сервантеса ведь смешон, потому что он рыцарь в эпоху отсутствия рыцарства.
Я не знаком с Натальей Поклонской и не могу, не хочу, да и не имею права судить. Но вполне себе представляю такую ситуацию: искренний, честный и, может быть, в чем-то наивный человек «без игры» — становится политиком. А политик по нынешним стандартам должен ясно понимать, когда и почему его поведение способно вызвать насмешки и осуждение. И это вопрос ответственности политика.
И все же больше всего в этой ситуации меня удручает то, как легко попирается человеческое достоинство. Это намного хуже, чем чья-то ошибка или, тем более, наивность.
Конечно, огорчает и подача этой темы людьми, убежденными, что странные христиане верят в какие-то странные чудеса, и все это вместе нечто темное и мрачное.
Для христиан главное чудо — не столько в нарушении физических законов мира, сколько в самом факте присутствия Бога в нашей жизни. Бог, творец вселенной, непостижимый и недостижимый, присутствует в нашей жизни! Человек от Бога уходит, а Бог его спасает — вот самое большое чудо!
И хорошо бы публике постатеистического времени наконец понять, что представления христиан о Боге далеки от тех, что являлись в советских спектаклях кукольного театра Образцова. Где Бог был лысым дедом с бородой, лепившим из теста человечков.
ДУЭЛЬ С ОБЩЕСТВОМ
— Александр Солженицын в «Размышлениях над Февральской революцией» дает великолепный антиреволюционный рецепт — не допускать дуэли общества и государства. Такая «дуэль в миниатюре», — только между Церковью и обществом — была видна, мне кажется, в споре вокруг Исаакия. Можно ли было ее избежать?
— Возможно, все непосредственные участники событий — и город, и епархия — не ожидали такого резонанса. Сегодня говорят о том, что не посоветовались с людьми. Но, поверьте, никто так не смотрел на ситуацию: давайте мы быстро все сделаем, а с народом советоваться не будем. Есть закон, есть процедура, есть накопленный опыт принятия подобных решений… То, что теперь выглядит как дуэль вокруг Исаакия, во многом было спровоцировано политическими силами, которые умело использовали в том числе и искреннее беспокойство людей: а что же теперь будет с собором?
Мне кажется, что Патриарх расставил все точки над i в этой истории. В своем выступлении на Высшем Церковном Совете он сказал, что есть люди, которые волнуются, и критикуют, переживая как бы что не случилось с культурным наследием. И мы этим людям отвечаем: Церковь его сохранит. Но также очевидно, что определенные политические силы попытались использовать эту ситуацию, и на улицах Петербурга зазвучали политические лозунги, не имеющие никакого отношения к Исаакиевскому собору.
Суть наших планов относительно Исаакия проста: если раньше в нем была богослужебная жизнь при музее, то мы хотим, чтобы была музейная деятельность при церкви. Полагаю, это и справедливо, и честно, и должно всех устроить. А никакого глубинного конфликта между музейным сообществом и Церковью нет. И быть не может.
— Но этот спор поднял важную тему церковного культурного наследия. Готова ли Церковь его хранить, или для этого ей нужен союз с высокими профессионалами из сферы культуры?
— Такой союз безальтернативен. Сохранять будем вместе. Исторически музейное дело в нашей стране выросло во многом из церковных древлехранилищ. И поэтому здесь существует органическая связь между церковью и культурой, и не надо задавать им некое обязательное противостояние.
В советское время музейные работники — низкий им поклон — сохранили церковное культурное наследие. Из-за запретов, разрушений, гонений на Церковь, только они и могли его сохранить. Как культурное наследие. При этом, конечно, с религиозной точки зрения собственно религиозное значение того, что также является памятником культуры, все равно первично. Только Церкви при этом не надо по каждому поводу вменять культурное святотатство.
В древние времена в Церкви могли, не реставрируя, записать старинный стершийся лик иконы новым. Потому что иконы, храмы для всех тогда были, если применять современный новояз, исключительно «предметами религиозного использования». И только появившаяся гораздо позднее светская культура стала смотреть на них сугубо эстетически. И конечно, в этом взгляде нельзя никому отдать роль «первой скрипки», кроме светской культуры. Но она при этом не должна быть антагонистом Церкви.
Религия не растворяется в культуре. Потому что самое главное в религии — спасение. А оно не совершается в пространстве культуры или культурными способами. Это уже «прорыв к трансцендентному»… В религии, даже в религиозном памятнике культуры эстетическое не может быть главным — с точки зрения верующего. Мы, безусловно, признаем культурную ценность, охранять ее вместе с музейным сообществом, но не можем возвести — тут я готов дискутировать с глубоко уважаемым мною Михаилом Борисовичем Пиотровским — собственно культурное в рамки сакрального.
— Его фраза «По мне так музей — святое место» — лишь метафора очень высокой ценности культуры.
— Хорошая метафора. Но для верующего человека святость, святыня — не метафоры. Уж по меньшей мере, символ — в «лосевском» смысле слова, если вспомнить замечательную «Диалектику мифа» Алексея Федоровича. И в этом, наверное, разница подходов. Главное не начинать из-за этого битвы. Ибо для нее нет предмета.
Помню, будучи студентом и подрабатывая, я сопровождал одного швейцарского профессора по Золотому кольцу. Он был потрясающим знатоком православной архитектуры, но неверующим. И вот в каком-то храме ему что-то не понравилось по части то ли ухода, то ли как свет был выставлен, и он с болью повторял: «Они не понимают»! А я тогда подумал: а может быть, и вы, дорогой профессор, чего-то большего не понимаете, чем стоящая рядом с вами женщина со свечкой, по лицу которой текут слезы? Конечно, для него самое ценное, что это XVII век, а для священника в этом храме главная ценность — слезы этой женщины.
Но это не значит, что можно мыть древние иконы хозяйственным мылом. И что их не надо сохранять.
— Отец Павел Флоренский писал: раз есть «Троица» Рублева, значит есть Бог.
— Это, мне кажется, немного о другом. Мы же с Вами заговорили о природе эстетического. Искусство не меняет кардинально людей и жизнь. Иначе бы человек, посмотрев кино и пережив катарсис, вышел бы из кинотеатра и начал новую жизнь. Но не меняет оно нас так. Недавно об этом замечательно сказал Андрей Сергеевич Кончаловский: «уже столько великих произведений создано, а мы все как-то далеки от идеала».
— Если серьезно зацепиться за искусство, я думаю, оно меняет человека. И сильно. Очень люблю вычитанное в дневниках у отца Александра Шмемана утверждение: Бог живет не только в церкви, он живет и в искусстве, и в природе.
— Да, Он везде живет. Но можно, умело читая книгу природы, Божиего творения, остаться неверующим. Поэтому важен и спасителен собственно религиозный путь. Кстати, Флоренский так говорил о «Троице», потому что видел в ней не просто художественное произведение, но «узренное откровение», то есть молитву, мировоззрение, «умозрение в красках», как выразился Трубецкой. Более того, «истинным творцом» «Троицы» Флоренский предлагал считать даже не Рублева, но преподобного Сергия Радонежского, чьим духовным внуков, по мнению Флоренского, был Рублев.
ПРОЩАЙ, МАТИЛЬДА, ЗДРАВСТВУЙ, ЦАРСТВО
— Весной этого года разгорелся еще один важный спор между творческой интеллигенцией и Церковью — по поводу фильма «Матильда».
— …которого пока никто не видел. Да, ситуация, скажем так, немного необычная. Я встречался с Алексеем Учителем, мы интересно пообщались. Драматургический сценарный ход понятен: герой попадает в ситуацию, когда его любовь к женщине вступает в конфликт с необходимостью исполнения государственного долга, который на него обрушился.
— В реальной истории этого не было? Но художник имеет право на вымысел.
— Безусловно, имеет. Как и на интригу, на интересный ход. Но и на реакцию. Например, историков, которые скажут, что такого не было. Или что все было совсем не так.
Я как культуролог и сам все время объясняю своим студентам: да, природа искусства предполагает право художника на вымысел. Но здесь же очень важен и вопрос об ответственности. Вот, скажем, есть вещи, по поводу которых сложился общественный консенсус. Мы же понимаем, что если тема Холокоста вдруг будет представлена скандальным образом, то никто не кинется защищать оскандалившегося. Потому что есть согласие во взглядах на эту тему. Но почему тогда религиозные, христианские чувства, взгляд на исторические фигуры претерпевших страдание людей не должны быть оберегаемы таким консенсусом?
Один известный режиссер снял фильм о войне, возмутивший ветеранов. Имел он право на художественный вымысел? Да. Можем ли мы успокоить ветеранов рассказами об этом праве? Нет. Будем надеться, что в ситуации с «Матильдой» конфликта не произойдет.
— Но однажды в споре с подавшими в суд ветеранами были правы не они, а написавшая когда-то замечательную книгу «У войны не женское лицо» Светлана Алексиевич. Я не поклонник книги, за которую она получила Нобелевскую премию, но… Художники прорывают штампы, сдвигают фокус зрения.
— Главное, чтобы зрение от этого не портилось. Я сейчас даже не о том, кто прав, а кто виноват (хотя и к обычным людям, не только к святым, важно относиться бережно, особенно когда погружаешь их жизнь в поле художественного вымысла). А о том, что бывают конфликты.
И вот если конфликт уже возник и не успокаивается, то самый цивилизованный способ разрешить такой конфликт в современном демократическом обществе — это вывести его в правовое поле. Помните ситуацию с оперой «Тангейзер» в Новосибирске? Мне не нравилось, что она дошла до суда. Но приходится констатировать, слегка перефразируя Черчилля: разрешение конфликта в суде — ужасно, если не считать всех остальных способов. «Остальные способы» — срыв спектаклей, избиение актеров, сожжение театров, закидывание кого-то яйцами и помидорами — еще хуже. Когда появился закон об оскорблении религиозных чувств, я, давая официальный комментарий, сказал: мы за то, чтобы не было ни одного приговора по этой статье. Потому что приговоры будут означать, что у нас пренебрежительно относятся к вере. И это прискорбно.
— О консенсусе, который мне кажется важнее приговоров. Наверное, христианские ценности должны быть не только предметом огорчений для переживающих за них религиозных людей, но как раз предметом широкого общественного консенсуса. Именно потому, что это христианские ценности. Но может быть не обязывать к этому общество через суд, а приглашать его к пониманию того, что по поводу этих ценностей недаром и не зря уже сложился широкий — почти мировой — общественный консенсус. И другая вера не запрещает чтить их.
— Да, но общество все-таки шире, чем интеллигентский круг. Действовать только убеждением невозможно. Например, защита ценности человеческой жизни силой закона и принуждения тысячелетиями не вызывает ни у кого вопросов.
— Но такое ощущение, что приговоров больше чем разговоров…
— Юрий Лотман говорил: у каждого человека свой болевой порог. Кому-то больно, когда обидели его, кому-то — когда задели его и его близких. А культурному человеку, говорил Лотман, больно от чужой боли. Пусть человеку непонятно, почему у меня болит. Но если он человек культуры, ему должно быть больно от моей боли.
ИСКУССТВО НА ВЫСОТЕ
— Искусство слишком увлечено провокационными языками.
— А провокаторы — люди культуры? По Лотману? Интеллигентный человек, когда ему говорят, что он кого-то обидел, а он уверяет, что этого не хотел — извиняется. Без условий и оговорок.
— Но недаром тот же Пиотровский относит актуальное искусство скорее к массовому, чем к высокому. Задеть кого-то — это прием. Особенно, когда в Церкви говорят: руки прочь от классики.
— Конечно, классика не обладает авторитетом Священного писания. И нет ничего святотатственного или запретного в ее авторском прочтении. Выходил же Высоцкий читать монолог Гамлета в джинсах, и это никому не казалось издевательством над классикой. Но если просто человек в джинсах, скажем, ловко справляет нужду на сцене — причем здесь Гамлет?
Конечно, не всегда легко провести одну для всех линию, отделяющие искусство от подделки. Нередко мы руководствуемся интуитивными ощущениями, каким-то своим внутренним критерием. У меня он такой: в талантливом произведении искусства не видишь неточностей. В одном из лучших фильмов Никиты Сергеевича Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино», в сцене, где герой бежит с отчаянным монологом «Мне 35 лет!», в кадр попадает осветительный прибор. Я его заметил, лишь когда мне об этом сказали, хотя фильм смотрел много раз. Просто сыграно и снято гениально.
Или в «Записях для себя» у Вересаева — циничный офицер пошел на Айседору Дункан, потому что ему сказали, что она танцует голая. Она, действительно, танцевала в прозрачной накидке, но он был настолько потрясен ее танцем, что вообще не мог вспомнить, в какой она была одежде.
А когда ты только и видишь, что герой на сцене либо буквально голый, либо что-то сжег, либо еще какой «перформанс» или «инсталляцию» сотворил, то да, сразу налицо провокация, а искусства нет.
А вот совсем недавно я видел искусство, достигшее, по-моему, религиозно-философский высот. Я про «Рай» Кончаловского. Признаюсь, шел на премьеру с некоторым страхом: слышал про очень длинные монологи, авторский взгляд и проч. Но замер с первых минут.
Этот потрясающий, чрезвычайно глубокий фильм. Сам режиссер признавался, что его интересовала тема привлекательности зла, эстетизации зла. Тема, конечно, не сугубо религиозная, но связанная с религиозным измерением: и сатана рядится в одежды ангела света…
Потрясающе, как режиссеру удалось это показать. Приведу только один эпизод: один из главных героев, нацистский офицер (при этом по образованию филолог, славист, ценитель культуры), приезжает в концлагерь с проверкой и встречает там своего университетского товарища. И тот говорит ему: «Помнишь, у Чехова была невеста? Дуня Эфрос». «Да, помню, он не женился на ней». «Расскажу тебе маленькую незначительную деталь. Она недавно пошла прямо в газовую камеру. Ей было 67 лет».
И этот диалог сильнее многих сцен с оторванными руками и головами.
10 моих студентов-первокурсников журфака МГИМО — вся группа — пошли смотреть «Рай». Потом, потрясенные, написали очень искренние и интересные рецензии. Потому что искусство. Настоящее.
УКРАИНСКИЙ РАЗЛОМ
— На каждой Литургии в церкви звучит молитва об Украине. Всех нас волнует происходящее там. У меня там много родственников, я знаю, какая для многих это трагедия…
Но мне кажется, сейчас важно помнить, что эта тяжелейшее гражданское противостояние, украинский разрыв и разлом, прошедший даже по семьям — закончится.
И поэтому при огромном информационном накале с разных сторон, нам не надо сегодня сводить отношения между народами к драке и уплощать их до политических разборок.
И Киев — мать город русских, не должен превращаться у нас в столицу зла, в игрушку политического противостояния. Они говорят плохо о нас, нам хочется ответить «у вас еще хуже», но давайте останавливаться.
Церковь титаническими усилиями пытается сохранить и мир на Украине, и отношения между нашими народами… Потому что — две страны, два народа, но одна Церковь. И придет время — об этом много раз говорил Патриарх — и здесь собирать камни.
ПРЯМОЙ ВОПРОС
— Почему тема «русского слова» сейчас так важна для Церкви?
— Святейший Патриарх Кирилл недавно хорошо об этом сказал. Есть такое представление, будто Церковь, мол, беспокоится лишь о преподавании основ православной культуры. А на самом деле, Церковь — и нас всех, как граждан, и Патриарха лично — беспокоит состояние образования в целом. И тому, если угодно, есть даже собственно религиозные причины. Коль скоро говорится «возлюби Бога всем сердцем твоим, всей душой, всем разумением твоим», то конечно, разумение, интеллектуальное развитие, это то, что Церковь не может не ценить, на что не может не обращать внимания.
Я не разделяю многих популистских и идеологизированных алармистских высказываний о печальных изменениях в русском языке. Кому-то одно появление в нем иностранных слов кажется чуть ли не уничтожением. «Панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет», но когда они появились, великий и могучий язык не умер. Серьезные лингвисты относятся к этому иронически. Иногда такой популистский алармизм нужен лишь для сотрясения воздуха.
Но положение языка, сохраняющего смысловое и культурное пространство и являющегося частью общего культурного поля, конечно, беспокоит Церковь. Язык — и основа коммуникации в культуре и залог ее сохранения.
Мы понимаем, что прежде всего нужно нормальное изучение русского языка в школе. Потому что образование — употреблю, несмотря на дискредитированность, это слово — одна из скреп народа. Нация, народ собирается системой образования.
Однако Общество русской словесности, которое Патриарх возглавил по просьбе Президента, уж точно не общество, в которое пришли люди Церкви для решения сугубо церковных задач. Нет, это возглавляемое Патриархом сообщество профессионалов, которое, диагностируя сложную ситуацию в образовании и преподавании русского языка и литературы, пытается помочь ее изменить. Получив карт-бланш от государства доносить свои наработки до тех, кто за это отвечает — в министерстве образования, Рособрнадзоре и т.д. В Обществе созданы и действуют несколько групп, проделана очень большая и профессиональная работа.
И нет ни у кого желания сузить русскую литературу до одного учебника. Хотя есть обеспокоенность тем, что вариативность сегодня позволяет учителю единолично решать, включать ли Толстого с Достоевским в школьную программу. Вот этого хочется избежать.
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат